ПОИСК:
Разгром Деникина
Товарищ юных дней Тухачевского однажды слышал от него, что как-то в разговоре Сталин назвал Михаила Николаевича "демоном гражданской войны". В устах Сталина это звучало похвалой. Она означала, что появление командарма на фронте было зловещим предзнаменованием для белогвардейцев,- их ожидал неминуемый разгром. В первые годы гражданской войны Сталин был способен более или менее справедливо оценивать заслуги своих боевых товарищей.
Еще в ранней молодости Тухачевский пришел к отрицанию устоев старой России - самодержавия, православия. Из этого духа отрицания возгорелся тот огонь, который сделал из него революционера, советского полководца, коммуниста. С тех пор как Тухачевский поверил в правду ленинского учения, он не сомневался в справедливости возмездия, постигшего презренный и ненавистный ему старый мир. И он сделал все, чтобы это возмездие было смертоносным, испепеляющим.
Как ни странно, французские офицеры, бывшие вместе с ним в плену в немецкой крепости Ингольштадт, в 1916 году, сокращая трудно произносимую фамилию Тухачевского, называли Михаила Николаевича "Le douce Touka", что в переводе означает "Кроткий Тука". Кротости в нем, конечно, не было. Товарищей по плену привлекала его внешность, цветущая молодость, тонкие черты лица, мягкость и мечтательность во взгляде. "Кроткий Тука" или "Кроткий Мишель", как его еще называли, обладал мужественной осанкой и редкой физической силой. Тихий голос и доброжелательная улыбка уживались в нем с железной силой воли и твердостью характера. Да, такой человек мог предпринять пять попыток побега из плена, в том числе из крепости Ингольштадт с ее особым режимом.
В годы гражданской войны Тухачевского и подавно никто бы не назвал кротким. Имя Тухачевского после разгрома колчаковских войск и ставки Колчака в Омске стало известным не только в Красной Армии, но и в стане врагов. С каждым годом оно все больше и больше привлекало к себе внимание. О Тухачевском писали и пишут книги. Писали в поисках сенсационной темы и те, кто едва знали его в ранней юности,- эмигранты, и те, кто его совсем не знал.
Пленные белогвардейцы с удивлением обнаруживали, что полководец, имевший такую грозную известность, был человеком без тени рисовки или позы. Он изредка задавал пленным вопросы, но больше сосредоточенно и внимательно слушал, о чем спрашивали пленных другие командиры Красной Армии.
Фронтовые товарищи командарма рассказывают, что в разгаре боевых операций он сохранял решительность, бесстрашие, избегал громких слов в приказах, обдумывал и учитывал все возможные варианты неприятельских контрударов. В наступательном порыве командарма чувствовалась редкая сила воли, страстное желание разбить противника, ожесточение, которое не угасало, пока враг сопротивлялся, и поразительная личная храбрость.
Все эти достоинства военачальника сказались в военных операциях против армии Деникина.
1919 год. Осень. Москва.
Если бы путешественник, дружественно относившийся к нашей стране, оказался в Москве в октябре 1919 года, он был бы изумлен. Его поразили бы пустынные, тихие улицы столицы, по которым изредка громыхала ломовая телега, запряженная скелетоподобным конягой, груженная рулонами коричневой и серой газетной бумаги, иногда проносился автомобиль, стреляющий горьким, царапающим горло дымом.
Гость бродил бы по улицам города, по бульварам, где ветер гонял желтые листья, и удивлялся необыкновенному спокойствию, царящему в городе. Гость подходил бы к витринам давно опустевших магазинов, разглядывал знаменитые "Окна сатиры Роста".
Невозможно забыть Москву того времени, столицу Республики в кольце блокады. Голодные люди с заострившимися чертами лица, с черствым пайковым хлебом под мышкой. Дети с бледными личиками, их матери с грузом щепок, подобранных на пепелище разобранного на топливо или сгоревшего деревянного домишка на окраине города.
В квартирах дымили печки "буржуйки", сделанные из жести, у этих раскаленных печек грелись продрогшие от осенней сырости люди. Здесь же варилась пища - пшено или картошка, вымененная на последнюю серебряную ложку на Сухаревке. А Сухаревским рынком безраздельно владели спекулянты-мешочники. Вечерами свет зажигался только в некоторых районах города: не хватало электроэнергии. Однако ни голод, ни грозные вести с фронтов - а фронт был у Орла и под Петроградом - не вызывали ни ропота, ни страха, ни паники у москвичей.
На Красной площади рабочие, с винтовками, в поношенных пиджаках и косоворотках, в дырявых башмаках, по команде "на первый-второй - рассчитайсь!" строились, бодро выкликали "первый!", "второй!". В Кремле, на Соборной площади, печатая шаг, маршировали курсанты школы ВЦИК, будущие командиры, которых в Москве и па фронтах называли "кремлевские курсанты".
На стенах домов были расклеены номера "Правды", и прохожие сосредоточенно читали статью Владимира Ильича Ленина "Пример петроградских рабочих".
С какой уверенностью говорил о победе над помещичьей и капиталистической контрреволюцией Ленин! Между тем корпус белого генерала Кутепова, Корниловская и Дроздовская дивизии заняли Орел и угрожали Туле.
Путь белых к Орлу был отмечен грабежами, убийствами ни в чем не повинных людей. Сыновья помещиков и капиталистов мстили народу за отнятые у них усадьбы, фабрики и заводы, за то, что их лишили власти над рабочими и крестьянами.
Вопрос о земле был одним из самых острых для белых. Даже в верхнедонских станицах было неблагополучно. Дело дошло до открытого восстания малоземельных крестьян соседних с Донской областью губерний. Ранее крестьяне работали по найму, батраками у зажиточных казаков. Осевшие на мелких участках в Донской области, крестьяне потребовали раздела участков или, по крайней мере, приравнения их прав владения землей к казакам. Возникли кровавые столкновения между казаками и "иногородними", разыгрывалась своего рода "война железных крыш против соломенных" (по железной крыше можно было отличить казака от крестьянина).
Белые занялись бессовестным грабежом, их армию отягощали обозы с награбленным добром. Крестьяне и городское население увидели воочию оскаленную пасть зверя контрреволюции, увидели ужасы рабства, гнета, которые ожидают их, если народ не даст отпор контрреволюции.
Среди белых генералов были настоящие палачи, садисты вроде генерала Покровского, изобретавшего утонченные пытки. Этого зверя пристрелили, как бешеную собаку, в Болгарии, когда он попытался перенести туда свои бесчеловечные методы, подавляя рабочее движение в этой стране по просьбе болгарских монархо-фашистов.
Убивали и грабили (часто грабили и потом убивали) не уголовники, а аристократы по происхождению, "Рюриковичи", гордящиеся своей голубой кровью. Отцы этих господ владели тысячами десятин земли, а прадеды - тысячами крепостных душ. Разумеется, были в "грабьармии" и городское мещанство, и чиновники, и лица из духовного звания, выслужившиеся и надевшие погоны прапорщиков и подпоручиков, но не о них в этом случае речь. Спустя три, четыре года эти аристократы околачивались в "русских" кабаках на Плас Пигаль, в Париже, женились на старухах американках, становились сутенерами, убивали, попадали на скамью подсудимых или уже в зрелом возрасте жили тем, что доносили на героев французского Сопротивления и на евреев во время оккупации Франции гитлеровцами.
В 1961 году мне довелось быть на кладбище Сент Женевьев дю буа, в окрестностях Парижа. В одном углу кладбища я увидел огороженные цепями и орудийными снарядами могилы. Здесь лежали умершие за рубежом эмигранты, офицеры Дроздовской дивизии. Эти успокоились навеки.
Были среди эмигрантов и раскаявшиеся, осознавшие свою вину перед народом. Отправляясь в Испанию, они мужественно сражались против фашистов и интервентов на стороне Испанской республики, участвовали в движении Сопротивления и погибали в борьбе с гитлеровскими оккупантами.
Но вернемся к тому, что происходило на Южном фронте в грозные дни осени 1919 года.
По призыву Центрального Комитета партии, В. И. Ленина около тридцати тысяч коммунистов и десять тысяч комсомольцев были посланы на деникинский фронт.
Приняты были меры и против притаившихся контрреволюционеров. Их организацию "Национальный центр" уничтожила Всероссийская Чрезвычайная Комиссия. Таким образом, был сорван белогвардейский мятеж в тылу.
В октябре был подготовлен мощный удар Красной Армии на центральном направлении Южного фронта.
19 октября советские войска охватили Орел с трех сторон. В ночь на 20 октября деникинцы, опасаясь окружения, оставили город.
Это означало, что путь на Москву был прегражден.
24 октября конный корпус Буденного и части 8-й армии освободили Воронеж.
Центральный Комитет партии внимательно и зорко следил за ходом операций против Деникина. 14 ноября Политбюро приняло постановление о необходимости взятия Курска и наступления на Харьков и Донбасс.
В ночь на 18 ноября был освобожден Курск.
"Добровольческая" армия, недавно угрожавшая Москве, потерпела тяжелое поражение и под натиском Красной Армии откатывалась на юг. Серьезные неудачи постигли и Донскую армию противника.
19 декабря 1919 года Владимир Ильич, выступая на митинге перед рабочими бывшей Прохоровской мануфактуры, говорил:
"В настоящее время на юге, где Деникин имел возможность хвастать успехами, мы видим там все более и более усиливающееся наступление нашей Красной Армии. Вы знаете, что Киев, Полтава и Харьков взяты и наше продвижение к Донецкому бассейну, источнику угля, происходит с громадной быстротой".
Что же происходило в это время у противника?
В середине ноября и в декабре 1919 года, по свидетельству самих белых, отступление "Добровольческой" армии приняло характер катастрофы. Конница Буденного угрожала вклиниться между "добровольцами" и донскими казаками, захватить Донецкий бассейн и отрезать путь отступления к Дону. В Ростове-на-Дону еще надеялись, что Врангель сколотит беспорядочно отступавшие полки и что Красная Армия займет только Донецкий бассейн. Распространялись обнадеживающие слухи, будто красная конница выдыхается, красная пехота еще под Харьковом и подтянуть ее в короткий срок невозможно.
Чтобы поднять настроение, в Ростове-на-Дону устраивались парады, военные и гражданские чиновники маршировали под "Преображенский марш", но все понимали, что надеяться на это воинство не следует. Не поднимали духа белого воинства и публичные казни на улицах Ростова. "Осенние мухи" перед своей гибелью старались больно жалить, однако гибель деникинского царства была неминуемой. Это понимал и "царь Антон", как называли генерала Деникина. Была одна надежда на помощь "союзников", но и они, после того как обожглись на Севере и на Юге, в Одессе, предпочитали помогать только вооружением и снаряжением. Впрочем, несмотря ни на что, белая армия была еще боеспособна, даже после катастрофы у Орла, даже после того, как 6 января (нового стиля) конница Буденного вошла в Таганрог, а 8 января - в Ростов-на-Дону.
"Вооруженные силы юга России" распались на три обособленных в пространстве группы. Самая большая по численности группа - Донская армия, остатки Кубанского и "Добровольческого" корпуса на левом берегу Дона - стремилась опереться на Северный Кавказ. Возникла опасность, о которой предупреждал еще В. И. Ленин. Группа Слащева отошла в Крым. Против нее действовала одна только 46-я ослабленная и растянутая на широком фронте дивизия, что было очевидной ошибкой нашего командования, ибо позднее Крым превратился в базу южной контрреволюции. На правом берегу Днепра и в Одессе еще удерживалась группа "Добровольческой" армии генерала Шиллинга.
10 января 1920 года наш Южный фронт был переименован в Юго-Западный, а 16 января Юго-Восточный фронт назван Кавказским. В распоряжении командования Кавказского фронта были 8, 9, 10, 11-я армии и Конная армия Буденного.
Казалось, не за горами был полный разгром белых армий и освобождение Северного Кавказа. Но это оказалось трудной задачей, стоившей нам немало крови.
Ко времени назначения Михаила Николаевича Тухачевского на Кавказский фронт на Дону и Маныче происходили тревожные события.
Командованию Кавказским фронтом предстояло уничтожить силы противника на левом берегу Дона.
В докладе Главного Командования Совету Рабоче-Крестьянской обороны говорилось, что задержка в наступлении произошла из-за местных условий (разлив Дона, рек и ручьев). Между тем противник воспользовался передышкой, привел в порядок свои части, сжатые на ограниченном участке фронта. Войска противника находились в центре своей базы и имели возможность получать пополнение из местного населения. Нашим войскам предстояло преодолеть такие речные рубежи, как Дон и Маныч. Для организации окончательного удара по Деникину потребовалось продолжительное время и наличие свежих сил.
Командующий фронтом В. И. Шорин был уверен в успехе операций на левом берегу Дона. Однако советские войска уперлись в так называемую "Батайскую пробку". Вышибить ее оказалось нелегко.
15 января замерз Дон. Фронтальный удар Конной армии на Батайск, в ночь на 17 января, кончился неудачей. 19 января Конная армия снова неудачно наступала на Батайск. 20 и 21 января наступление также было безуспешно.
Гибли всадники. Гибли кони. Местность была мало пригодной для действий конницы: ограниченное пространство для развертывания конных масс, открытая низменная равнина, топь приводили к большим потерям. Белые находились в выгодном положении, они действовали подвижными резервами, отбрасывая по очереди переправляющиеся дивизии Конной армии.
Реввоенсовет Конной армии, командарм 8-й армии возражали против лобовых атак. Так возник конфликт с командующим фронтом Шориным. Командующий фронтом обвинял Буденного и Ворошилова в неумелом использовании сил и длительной стоянке в районе Ростова без активных действий. Буденный и Ворошилов предлагали Шорину использовать Первую Конную на другом направлении, поставить перед конницей свойственные ей задачи, использовать ее способность к гибкому маневру и массированному сокрушительному удару. Шорин по-прежнему настаивал на фронтальных ударах.
Василии Иванович Шорин был опытным, имевшим заслуги военачальником, но в этом случае он был, вероятно, не во всем прав.
28 января Конная армия имела некоторый успех во фронтальном ударе, но, не организовав преследования, 29 января получила ответный сильный удар от конницы Мамонтова, оправившейся после сражения под Воронежем. Наша 11-я кавалерийская дивизия на время утратила боеспособность.
Командованием фронта была осуществлена еще одна операция. В то время как 8-я армия, усиленная двумя дивизиями, удерживала участок Новочеркасск - Синявская, Первая Конная перебрасывалась в район Константиновской. Здесь вместе с частями Сводного корпуса и одной стрелковой дивизией сделана была попытка нанести удар на Мечетинскую и выйти во фланг и тыл противника. Но и эта операция не удалась: пришлось переправляться через две реки - Дон и Маныч, а кроме того, противник успел перебросить в этот район часть сил, действовавших ранее под Батайском. Условия были явно неблагоприятны для Первой Конной. Форсировав Маныч, наша конница вынуждена была отойти: белые, действуя крупными силами, оттеснили ее на правый берег.
Это произошло 1-2 февраля 1920 года.
Тогда Реввоенсовет Первой Конной - Буденный и Ворошилов направили в Реввоенсовет Республики следующее донесение:
"С 12 января последними директивами командующего Кавказским фронтом Конная армия была брошена одна в бой без общего наступления всех армий. В ожесточенных боях между 12 января и 2 февраля Конная армия потеряла 3000 кавалеристов... Необходимы срочные меры по усилению пехотных частей в районе Манычская и немедленный переход в наступление по всему фронту. Красная кавалерия истекает кровью в неравных боях. Конский состав уменьшился вдвое и приходит в полную негодность. Только безотлагательные экстренные меры смогут спасти положение. Все мои обращения к командующему фронтом остались без результата. Жду срочных распоряжений. Буденный, Ворошилов".
После блестяще завершенной Омской операции по разгрому колчаковских войск Тухачевский в конце ноября приехал в Москву.
Пребывание в столице в разгар гражданской войны томило его. Однако назначение пришло не сразу.
Это происходило по разным причинам. Прежде всего, острая критика некоторых военных специалистов из старого генералитета, не понимавших характера гражданской войны, создала ему недоброжелателей. С другой стороны, его донимали те "сверхреволюционеры", которые подозревали в каждом командире из офицеров-дворян потенциального предателя. Наконец, находились и честолюбцы, которые не прочь были осадить прославившегося командарма.
В Москве вагон Тухачевского стоял на Сокольнической-товарной.
Несмотря на голод, холодную зиму, блокаду и гражданскую войну, музыкальная жизнь в столице не затихала. Музыка была страстью Тухачевского, он пользовался каждым случаем, чтобы послушать знаменитого скрипача, пианиста или симфонический концерт. В то время в Москве, в здании бывшей конторы императорских театров, на Большой Дмитровке, находилась редчайшая коллекция скрипок и виолончелей работы Страдивари и Гварнери. Эти великолепные инструменты до революции принадлежали титулованным особам и богачам. Тухачевский с интересом разглядывал скрипки, беседовал с хранителями коллекции о тайне звучания инструментов и о том, можно ли сделать в наше время скрипку, обладающую таким же поразительным тоном.
Его радовало то, что революция передала эти инструменты в руки выдающихся наших скрипачей и скрипки, наконец, будут звучать в концертных залах.
Москвичи не раз могли видеть Тухачевского в легких санках, запряженных чистокровным рысаком Ангарой. Правил Иван Федорович Кудрявцев,- в распоряжении шофера в этом случае была одна лошадиная сила, но зато это была Ангара. Не раз и не два Кудрявцев возил Михаила Николаевича к зданию на Арбатской площади, хорошо знакомому Тухачевскому еще по тем временам, когда он был юнкером Александровского военного училища.
Теперь в этом здании поместился Реввоенсовет Республики. Михаил Николаевич подолгу оставался в Реввоенсовете. Зима была морозная и снежная, Кудрявцев мерз и, чтобы согреться, шагал рядом с санями от Арбатской до Смоленской площади и обратно.
Неизвестно, сколько времени тянулось бы вынужденное бездействие Тухачевского, если бы не вмешательство Сергея Ивановича Гусева, главкома С. С. Каменева, и то внимание, которое уделял Южному фронту сам Владимир Ильич Ленин.
Однажды Тухачевский вышел из здания Реввоенсовета и радостно сказал Кудрявцеву:
- Вот теперь уже все. Едем на Кавказ.
Тухачевский был назначен командующим 13-й армией. Но когда на Дону образовалась "Батайская пробка" и вместе с тем возник конфликт между командующим фронтом В. И. Шориным и Реввоенсоветом Первой Конной, Тухачевского назначили вместо Шорина командующим всем Кавказским фронтом (впоследствии Шорин был помощником главкома).
С военной точки зрения противник располагал более выгодным положением. Белые опирались на труднопроходимые рубежи Дона и Маныча. Донские казачьи части сражались на своей территории, что увеличивало их боеспособность. Однако с точки зрения социально-политической положение белых было невыгодным. Обнаружилось полное разложение тыла белой армии, разрасталось повстанческое движение в Чечне и Дагестане. Остро чувствовался сепаратизм, так называемая "самостийность", кубанского казачества. "Войсковой круг" вырабатывал конституцию "казачьего государства". Терские казаки требовали "мирного народоправства".
Даже донские казаки, "старший брат", как их именовали деникинцы, по примеру "младшего брата" - кубанцев склонялись к идее "казачьего государства".
На Кубани укреплялось движение "самостийников", потихоньку, а потом и вслух поговаривали о том, что с Советами можно заключить мир и зажить по старинке, казачьим государством, наподобие Запорожской Сечи. "Добровольческая" армия, господа офицеры смотрели на казаков как на вооруженную силу, которую надо держать "в струне", "подтягивать" с помощью шомполов и угроз. "Добровольцы" были белой костью, господами дворянами, а казаки - все-таки "мужичьем", правда владеющим сравнительно большими наделами и за это обязанными сражаться за помещичьи имения, за чужие фабрики, заводы и шахты, за "единую, неделимую". Даже между казачьими и добровольческими офицерами была рознь. "Добровольцы" считали казаков "серачьем", "хамами", а вслед за господами офицерами смотрели на казаков сверху вниз и чиновники, тайные, статские, надворные и прочие советники, которых немало осело в Ростове-на-Дону и Екатеринодаре.
В мемуарах, опубликованных за границей, белоэмигранты довольно подробно рассказали о серьезнейших причинах недружелюбного отношения кубанского казачества к "Добровольческой" армии, о разгроме генералами Врангелем и Покровским Кубанской рады. По обычаю "добровольцев" были и казни так называемых "самостийников". И потому не удивительно, что в дни боев на Маныче кубанские полки, что называется, обезлюдели. Деникин сам признавал, что некоторые кубанские полки имели по "60 шашек". Таким образом, тыл "Добровольческой" армии и донцов был далеко неблагополучным.
К 7 февраля 1920 года у Тухачевского, видимо, был уже разработан план операций против "вооруженных сил юга России", русской Вандеи, как называли юг России в Западной Европе. В этот день из поезда командующего фронтом он телеграфировал командарму-8 Сокольникову, предупреждая его о том, что, по достоверным сведениям, противник производит перегруппировку, сосредоточивает конницу в районе Азов - Батайск, возможно, с целью активных действий в районе Ростов - Новочеркасск. Тухачевский приказывал принять все меры "к удержанию нашей армией ныне занимаемого положения, так как успех противника может помешать выполнению намечаемой операции".
В тот же день следует директива Тухачевского командарму Конной армии: "...от предполагаемого набега необходимо отказаться по причинам, которые будут ясны из последующей директивы. Набег на Хомутовскую может быть произведен частью сил для отвлечения внимания противника, группирующегося в районе Азов - Батайск".
Далее командующий фронтом разъяснил, что в ближайшие дни намечена переброска конармии в другой район и "промедление исполнения может нарушить намеченный план операций".
Наконец, 12 февраля шифрованной телеграммой "вне всякой очереди" был отдан приказ, в котором подробно излагался план боевой операции, задуманной Тухачевским.
Эта директива (№ 42/п) настолько важна для всей последующей кампании, что ее следует привести в главной ее части:
"...Армиям фронта приказываю 14 февраля с рассветом начать общее наступление, разбить противника и отбросить его к Азовскому морю, для чего:
1. 8-й армии, нанося главный удар в направлении Кагальницкая, в ближайшие дни овладеть течением р. Кагальник.
2. 9-й армии, нанося главный удар в направлении пос. Новороговский, 19 февраля достичь линии Ново-Протопоповская, пос. Новороговский.
3. Конной армии, разрезая и сбивая фланги Донской и Кавказской армий противника, прорваться в район ст. Тихорецкая к 21 февраля.
4. 10-й армии, отрезая Кавказскую армию противника от ее пути отступления на Армавир, 19 февраля достигнуть линии Беляев, Белая Глина, Успенская. Выслать для связи с 11-й армией боковой отряд на Ново-Александровская, Новотроицкая.
5. 11-й армии правофланговой группой в ближайшие дни овладеть районом Ставрополь, Армавир.
6. Разграничительные линии продолжаются: между 9-й и 10-й армиями - Средне-Егорлыкское, Новокорсунский, для 10-й армии включительно, и между 10-й и 11-й армиями - Безопасное, Привольный, для 10-й армии включительно.
7. Наступление начать одновременно всеми наличными силами, не ослабляя себя излишними резервами. Действовать плотными ударными группами.
8. О получении сего и отданных распоряжениях донести.
Командкавказ Тухачевский, член РВС Орджоникидзе, за наштафронт Пугачев".
Этот план Тухачевского еще раз показал способности полководца, широту охвата задуманных им операций. Командующий фронтом не упустил ни малейшей возможности для того, чтобы притянуть к фокусу решительной схватки все силы, которые могли принять в борьбе хоть какое-нибудь участие.
Намечался охват противника с правого фланга одновременно с прорывом его центра и сковывающими действиями против левого фланга.
В 1918 году Тухачевский начал свою полководческую деятельность с командования разрозненными отрядами, у него не было опыта, он действовал, можно сказать, интуитивно.
Приступая к операциям против армий Деникина, он имел большой опыт, приобретенный в победах над белочехами, белогвардейцами и колчаковскими армиями.
Осуществляя свой план окончательного разгрома белых на юге, он действовал уверенно.
14 февраля началось задуманное Тухачевским наступление.
Приказ о наступлении подписал член Реввоенсовета фронта Орджоникидзе. Именно здесь, на юге, началась боевая дружба верного соратника Ленина Григория Константиновича Орджоникидзе и Михаила Николаевича Тухачевского.
Серго умел узнавать людей, видеть их достоинства и недостатки. Он рассказывал Тухачевскому о поразительных чертах характера Ленина, о его скромности, бесстрашии, о жизни в эмиграции, о суровых испытаниях, пережитых в ссылке, верности долгу революционера. У старшего поколения замечательных большевиков Тухачевский учился критически относиться к своему делу, быть требовательным к себе, так же как и к другим.
Он научился оценивать положение противника не только с чисто военной, но и социально-политической стороны. Он считал себя военным на службе партии. Поздней ночью его заставали за чтением трудов классиков марксизма и удивлялись его работоспособности. И уж, конечно, с нетерпением он ожидал каждой статьи или выступления Ленина, тем более если они непосредственно относились к военным операциям.
В заключительной речи на VII Всероссийском съезде Советов Ленин назначил срок уничтожения Деникина от нескольких недель до двух-трех месяцев. Это и стремился осуществить Тухачевский, вместе с Реввоенсоветом и штабом разрабатывая план ликвидации Деникина.
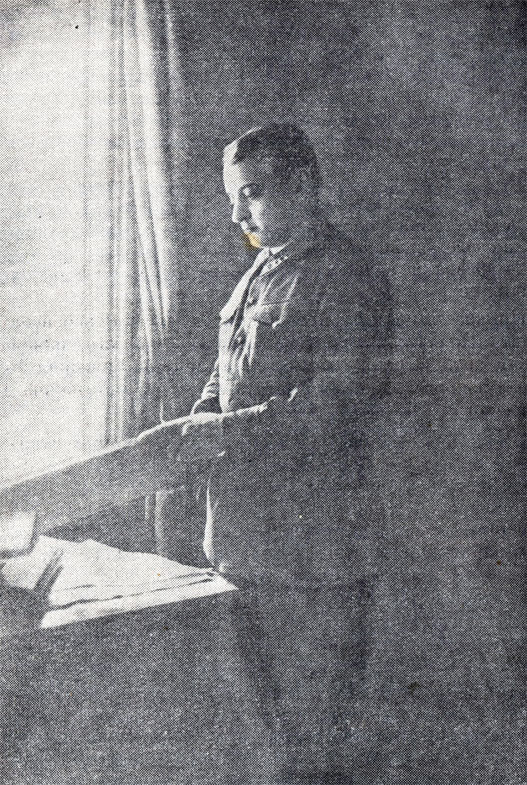
М. Н. Тухачевский в часы досуга
Тухачевский не ошибся, когда предупреждал, что противник предпримет активные действия в районе Ростов - Новочеркасск. В "Походе на Москву" Деникин писал о том, что он еще 26 января 1920 года дал директиву о переходе в наступление северной группы. Главный удар предполагалось нанести в направлении Новочеркасска, с тем чтобы захватить с двух сторон новочеркасско-ростовский плацдарм.
30 января (по старому стилю) Первая Конная по директиве Тухачевского была переброшена вверх к Манычу на тихорецкое направление. Тухачевский правильно оценил неустойчивость Кубанской армии и нанес удар по линии наименьшего сопротивления - на Тихорецкую.
Однако противнику удалось сбить правый фланг 9-й армии. Причину этой неудачи командование фронтом видело в необдуманных действиях командования 9-й армии, которое но частям подставляло свои силы под удары белых.
Результаты маневра Первой Конной армии еще не успели сказаться. Выигрывая размах для удара, Конная армия сильно уклонилась на Торговую. Чтобы протолкнуть вперед 9-ю армию, Тухачевский приказал 8-й и 10-й армиям сосредоточить ударные группы на своих флангах, прилегающих к 9-й армии, и помочь ей. Конная армия должна была продолжать наступление в направлении Круглая Балка - Лопенка - Тихорецкая. Однако 8-я армия продолжала "топтаться на месте". Тем временем удар белой конницы генерала Павлова обрушился на конные дивизии 10-й армии - Блинова и Гая. Эти дивизии были атакованы и сбиты конницей Павлова 17 февраля.
Тяжко пострадала затем 28-я стрелковая дивизия. Начальник ее, герой гражданской войны Азин был взят в плен и замучен белыми. Доблестная дивизия задержала корпус Павлова на сутки и благодаря этому Конная армия подготовилась к отражению атаки белой конницы. Корпус Павлова был отброшен, попал в буран и половина его погибла в степи.
В столкновении белой и красной конницы назрел кризис всей кампании, который и разрешился разгромом корпуса генерала Павлова под Атаман-Егорлыкской.
* * *
В документальной, художественной и военно-исторической литературе о гражданской войне редко пишут о тех своеобразных деталях быта Красной Армии, ее штабов, которые передают атмосферу эпохи, неповторимые подробности, то, что живо ощущают посетители музея Советской Армии, когда осматривают образцы оружия, фотоснимки, документы этой поистине легендарной эпохи. Разумеется, что чувство эпохи с особенной остротой пробуждается в людях старшего поколения. Молодежь изумляют и самодельные пушки партизан и ручные гранаты "лимонки". Молодежь живо чувствует романтику прошлого, для нее эти экспонаты музея или документы архивов - своего рода иллюстрация к романам "Как закалялась сталь", "Разгром"... А для старшего поколения это - священные реликвии.
С чувством волнения мы держали в руках доклады Реввоенсовета Кавказского фронта, написанные на обороте оберточной бумаги, сквозь которую проступали такие строки: "Персидский фруктовый чай. Чистый вес фунта. Чай цейлонский. Сильный аромат и крепкий настой". Более всего волнуют пожелтевшие ленты прямого провода, желтые листы телеграфных бланков с заголовками: "Оперативная, вне всякой очереди".
Когда перечитываешь боевые приказы Тухачевского, разбираешь написанные им собственноручные директивы, обращаешь внимание на тот наступательный порыв, который так характерен для его полководческого искусства.
Чтобы отвлечь внимание и силы советских войск от тихорецкого направления, командование белых бросило добровольческий корпус в наступление на Ростов.
21 февраля наша 8-я армия на короткое время оставила Ростов и перешла к обороне.
Наступление на северном фронте, занятие добровольческим корпусом Ростова пробудили угасшие было надежды белых. Надежды эти еще более окрепли, когда Донскому корпусу генерала Гусельщикова удалось захватить Аксайскую, Хопры, Гниловскую и Темерник.
Это была одна из неожиданностей гражданской войны. Тухачевский предвидел этот жест отчаяния белых и продолжал наступление на Тихорецкую. 22 февраля, в связи с событиями в районе Егорлыкской, "Добровольческая" армия вынуждена была начать отход за Дон, чтобы усилить конницу генерала Павлова. Части 10-й армии уже выходили в глубокий тыл белых к Тихорецкой. Деникин мог себя утешить только тем, что добровольческий корпус оставил Ростов и отошел за Дон "по его приказу".
Временный захват Ростова ничем не помог белым. В бессильной злобе, оставляя Ростов, деникинцы расстреливали раненых красноармейцев в госпиталях. Но возмездие уже ожидало озверевших убийц.
Военные историки пишут о единстве и цельности оперативного замысла Донско-Манычской операции, когда ради достижения главной цели командование фронтом, оторвав основные массы своих сил от Ростова и Новочеркасска, смело бросило их в глубь северо-кавказских степей.
2 марта Ростовская группа Красной Армии заняла Батайск. В тот же день была занята Тихорецкая. 9 марта наши войска вступили в Ейск; 17 марта был занят Екатеринодар. Эвакуация столицы "самостийного казачества" превратилась для белых в катастрофу. Поезд Шкуро, командующего Кубанской армией, был буквально облеплен бегущими от Красной Армии офицерами, чиновниками, представителями буржуазии и аристократии.
19 марта части Красной Армии переправились через Кубань у Усть-Лабинской и против Екатеринодара.
Итогом поражения белых у Тихорецкой был общий отход Донской армии и "Добровольческой" армии в одну точку, в Новороссийск. Даже Деникин в своих "Очерках русской смуты" признал, что белая конница временами в два раза превосходила силы противника, но, "пораженная душевными недугами, лишенная воли, дерзания", избегала серьезного боя. В конце концов она слилась с многотысячной массой беженцев, стремившихся на запад, в Новороссийск.
В ночь на 27 марта части Красной Армии заняли Новороссийск.
В Новороссийске, еще до его взятия, обозначились после падения Тихорецкой две формы эвакуации - английская и сербская. Английская - для тех, кому был уготован союзнический паек на Принцевых островах или на острове Лемнос, сербская - для тех, кто уезжал на Балканы.
Наиболее боеспособные части Деникина были посажены на суда и направлены в Крым.
2 мая 1920 года в районе Сочи сдались остатки Кубанской армии. Надо сказать, что только незначительная часть кубанских казаков согласилась уйти из Новороссийска в Крым.
Красная армия, ее командование, реввоенсоветы не только руководили боевыми операциями, но на освобожденной от белых земле восстанавливали и создавали органы Советской власти. Тухачевский, понимая все значение этого дела, принимал в нем горячее участие. Вместе с Реввоенсоветом и Ревкомом он заботился о том, чтобы не было самовольных реквизиций, сохранялась строжайшая дисциплина. Он знал, как внимательно следит Ленин за тем, чтобы на Северном Кавказе не были задеты интересы многонационального населения.
Современники, которые видели Тухачевского в Ростове, вероятно, удивлялись тому, что этот страшный для белых полководец без охраны, без оружия, в кожаной куртке запросто приходил в театр, беседовал с актерами, заботился об их быте в те трудные времена, помогал идейной перестройке театра, который раньше обслуживал публику белого тыла, а теперь, приняв искренне лозунг "Искусство - трудящимся", поступил в распоряжение политотдела Красной Армии.
Тухачевский не искал дешевой популярности, не подлаживался, не льстил. Когда это было необходимо, он показывал пример бойцам, и они уважали его за мужество, личную храбрость. Это был в полном смысле слова "товарищ командующий".
Победа над Деникиным была радостно встречена всем советским народом, сознававшим опасность южной контрреволюции. Боевые товарищи Тухачевского искренне поздравили его с победой.
В дни успехов "Добровольческой" армии, когда Деникин приближался к Туле, специальная белогвардейская комиссия разрабатывала план "административной кампании" в Москве. Можно было представить, что белые понимали под "административной кампанией" и какие палачи вроде генерала Покровского проводили бы эту кампанию. Гитлеровцы, как известно, тоже задумывавшие кровавую расправу в Москве, имели своих предшественников.
Деникин был разгромлен, но надвигалась новая опасность: белая Польша готовилась к нападению на Советскую Россию.
"...Поляки, видимо, сделают войну с нами неизбежной", - телеграфировал Ленин члену Реввоенсовета Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе 11 марта 1920 года.
В этой новой кампании Тухачевскому доверили Западный фронт.
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'