ПОИСК:
Глава третья. Максимилиан Робеспьер

Максимилиан Робеспьер
I
В истории есть имена, которые ни время, ни страсти, ни равнодушие не могут вытравить из памяти поколений. К их числу принадлежит имя Максимилиана Робеспьера.
Робеспьер прожил короткую жизнь. Он умер, а говоря точнее, погиб на эшафоте вскоре после того, как ему исполнилось тридцать шесть лет. Из этой недолгой жизни лишь последние пять лет были значительными; все предыдущие годы мало чем выделяли молодого адвоката из Арраса, поклонника Жан-Жака Руссо и автора сентиментальных стихов.
Когда весной 1789 года Робеспьер как депутат Генеральных штатов от третьего сословия Арраса вышел на большую политическую арену, его первые шаги были встречены враждебно-пренебрежительно. Не только "Деяния апостолов" (реакционно-монархический листок Ри-вароля) издевались над ним, но даже его политические единомышленники, депутаты третьего сословия и журналисты - противники абсолютизма, либо не замечали его, либо третировали свысока. В газетных отчетах того времени его фамилия искажалась: его называли то Роберньер, то Робецпьер, то Робер, а чаще всего даже не приводили имя, заменяя его обидно безличной формой: "Один из депутатов". Столичные щеголи и многоопытные остряки избрали Робеспьера мишенью для своих насмешек. Все развлекало их в этом депутате от Арраса: и старомодный оливкового цвета фрак, и провинциальные манеры, и приподнято-напыщенный слог заранее написанных речей. Однажды ему пришлось покинуть трибуну вследствие невероятного смеха, возникшего в зале. В другой раз он прервал свое выступление из-за шума, поднявшегося в аудитории; он тщетно пытался перекричать собравшихся, но, убедившись, что это ему не под силу, сошел с трибуны, не закончив речь.
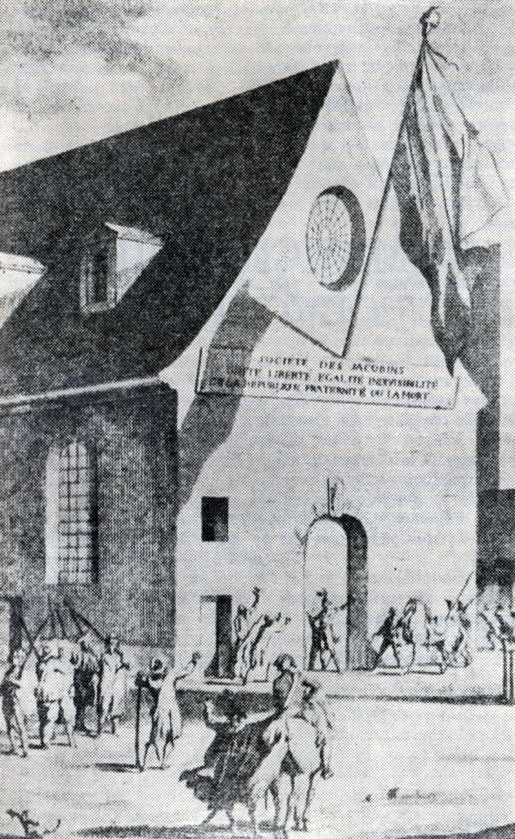
Политическая арена
Но время шло, и голоса насмешников должны были смолкнуть. В газетах научились правильно писать его имя; с последней страницы оно перешло на первую. В Национальном собрании и в Якобинском клубе к его выступлениям теперь внимательно прислушивались; уже ни костюм, ни манеры, ни слог оратора не вызывали иронических замечаний.
Прошло еще немного времени, и каждая речь Робеспьера в Конвенте была уже крупным политическим событием: ее встречали яростными возгласами неодобрения на одной стороне Собрания и громовыми аплодисментами на другой.
Революция шла вперед, поднималась на новые, все более высокие ступени в своем развитии. Вместе с нею росла и слава Максимилиана Робеспьера. В его образе жизни ничто не изменилось: он по-прежнему жил в той же единственной комнате в деревянном флигеле у столяра Мориса Дюпле на улице Сен-Оноре; он оставался так же беден, как и в ту пору, когда был безвестным; он не занимал каких-либо особых должностей или постов. И все же его влияние на политику революционного правительства, на общий ход событий непрерывно возрастало, а его слово становилось все более весомым.
Из всех лидеров революции Робеспьер оказался единственным, кто вместе с нею и во главе ее прошел весь путь до конца. Некоторые отстали в самом начале. Иные были отброшены на крутых поворотах революционным потоком. Из трех якобинских вождей Марат был убит кинжалом врага в первые дни якобинской власти, Дантон сложил голову на гильотине по приговору Революционного трибунала несколько позже, и лишь Робеспьер остался на гребне революционной волны.
Робеспьер стоял в самом центре стремительного хода событий, невиданных, беспримерных в истории. Он вел жестокую борьбу, но, как сказал Герцен, смелым шагом он "ступал в кровь, и кровь его не марала"*. Простой народ полюбил Неподкупного. Враги революции, открытые и тайные, трепетавшие при одном лишь движении его бровей, но тем сильнее его ненавидевшие, оттачивали ножи, плели паутину заговоров.
* (Герцен А. И. Соч., т. 3. М., 1956, с. 330.)
К лету 1794 года Республика, казалось, достигла вершины могущества и славы. Лучи этой славы озаряли вождя революционного правительства - Робеспьера. Однако его слава, достигшая зенита, мгновенно обернулась гильотиной. 9 термидора скрывавшиеся дотоле в глубокой тени заговорщики совершили контрреволюционный переворот, объявили Робеспьера и его друзей вне закона и на следующий день без суда казнили их на Гревской площади Парижа.
* * *
Эта необычная жизнь, эта поразительная судьба, естественно, приковывала к себе в течение долгих десятилетий не ослабевавшее с годами внимание.
Уже на следующий день после гибели Робеспьера его имя стало окружаться легендой. Его враги из всех политических лагерей, из всех группировок и фракций, сражавшихся против революции, его вчерашние друзья, которых страх заставлял отмежевываться от побежденного,- все выступали против него. Достаточно вспомнить хотя бы Луи Давида - прославленного художника, члена Комитета общественной безопасности. Друг Робеспьера, с горячностью обещавший после речи Неподкупного 8 термидора в Якобинском клубе выпить вместе с ним цикуту до дна, он после гибели Робеспьера оправдывался, утверждая, что был им грубо обманут. Все недовольные по тем или иным причинам правительством якобинской диктатуры, все подозрительные, над которыми нависла тень гильотины, все спекулянты, мздоимцы, расхитители государственного добра, честолюбцы, карьеристы - все дрожавшие под железной десницей Комитета общественного спасения теперь забрасывали поверженного вождя грязью, ложью, клеветой. Не только нечестивые соучастники заговора - все эти Тальены, Баррасы, Фрероны соперничали в проклятиях, изрыгаемых ими против "тирана" и "деспота", как именовали теперь Неподкупного. Политическая атмосфера после 9 термидора была столь накалена, что даже люди, далекие от корыстных страстей и политических расчетов, поддавались этому общественному психозу. Так, Жозеф Руже де Лиль, автор гениальной "Марсельезы", сочинил угодливый низкопробный гимн, прославляющий переворот 9 термидора, который якобы пресек "заговор Робеспьера", а драматурги, режиссеры и актеры, имена которых не сохранила история, клеветали на Неподкупного в разнузданных театральных представлениях*.
* (См. Person. Chants republicans et poesies patriotiques. An III; об этом же специальная рукописная работа проф. К. П. Добролюбского.)
Почти все деятели революции нажили множество врагов. След этой настигавшей их при жизни вражды переходил и в историю. Конечно, ни сама эта вражда, ни степень ее непримиримости у последующих поколений господствующих классов не могла быть одинаковой. Марат, например,- мне уже приходилось об этом писать - возбудил к себе особую ненависть буржуазии. И все-таки, если в данном случае допустимы сопоставления, надо признать, что круг врагов Робеспьера был значительно шире круга противников Друга народа. Марата ненавидели и боялись все те, кто стоял правее якобинцев: жирондисты, фельяны, роялисты. Среди недругов Робеспьера, наряду с ними были и иные, выросшие в последний год якобинской власти, когда Марата уже не было в живых. Врагами Робеспьера при жизни были не только перечисленные группировки, но и "бешеные", и эбертисты, и дантонисты, и все те пестрые, разнородные элементы, из которых позднее сложился термидорианский блок.
На Робеспьера возлагали ответственность за все. И нож возмездия, занесенный над Шарлоттой Корде, и изглоданные волками трупы жирондистских депутатов, и локоны Марии-Антуанетты, и прах герцога Орлеанского - Филиппа Эгалите, и отчаяние заколовшего себя в тюрьме Жака Ру, и кровь невинно погибшего Шометта, и бычья ярость Дантона, и слезы Люсиль Демулен, и сотни других казненных Революционным трибуналом, виновных и невинных,- все это записывалось на счет Максимилиана Робеспьера.
На это следует сразу же обратить внимание, ибо здесь ключ к пониманию последующей историографии Робеспьера, сложности и противоречивости оценок, которые будут ему даны позже.
После падения якобинской диктатуры все противники Робеспьера - правые и "левые" - сошлись на нескольких общих формулах, которые, будучи чудовищной клеветой, преподносились как ходячая истина. "Тиран", "диктатор", "деспот", "убийца", "кровопийца" - все эти бранные клички применительно к Робеспьеру одинаково звучали в устах и "левого" Колло д'Эрбуа, и правого Буасси д'Англа. Солидарность термидорианцев всех оттенков в их стремлении представить Робеспьера врагом рода человеческого простиралась так далеко, что они, не довольствуясь политическим и физическим уничтожением лидера якобинцев, даже надругались над прахом его, сочинив кощунственную эпитафию:
"Passant, qui que tu sois, ne pleure pas mon sort.
Si je vivais, tu serais mort", что можно перевести примерно так:
Прохожий, не печалься над моей судьбой, Ты был бы мертв, когда б я был живой*.
* (Цит. по: Блан Луи. История французской революции 1789 года, т. XI. СПб., 1909, с. 225.)
Но дальше этого начиналась область разногласий. Уже на второй день после 9 термидора Билло-Варенн, Барер, Вадье обвиняли Робеспьера в модерантизме, в терпимости к врагам, покровительстве священникам, т. е. критиковали его, так сказать, с левых позиций. Тибодо, Тюрио и другие дантонисты, напротив, требовали чистки и упразднения Революционного трибунала, амнистии, милосердия, т. е. выступали справа.
Так к Робеспьеру, который уже не мог ответить своим хулителям, прилипала грязь и клевета. Политические и литературные мародеры, торопившиеся нагреть руки на своем нечистом ремесле, глумились над памятью вождя Горы, стряпая клеветнические сочинения.
Начиная с доклада Куртуа, построенного на самой грубой и откровенной фальсификации*, с низкопробных брошюр Дюперона, Монжуа, Мерлена из Тионвилля, Лорана Лекуантра, еще ранее набившего руку на клеветнических доносах**, и многих других им подобных произведений продажного пера, постепенно стала складываться историография Робеспьера, крайне противоречивая, но вся от начала до конца лживая, построенная на клевете, на передержках, на вымыслах мстительной злобы, на злопыхательстве незабытых обид.
* Courtois E. Rapport fait au nom de la commission chargee de l'examen des papiers trouves chez Robespierre et ses complices. Paris, 1794.
** (Duperron L. Vie secrète, politique et curieuse de Maximilien Robespierre, suivi de plusieures anecdotes sur cette conspiration sans pareille. Paris, an 2 de la Republique; Montjoie Ch. F. L. Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. Paris, 1796; Merlin de Thionville a ses collegues. Portrait de Robespierre; Lecointre L. Robespierre peint par lui - meme. Paris, s. a.)
Так создался образ Робеспьера - искаженный, неузнаваемый, страшный, лишенный всяких человеческих черт, окаменевший сгусток всех пороков и низменных страстей, портрет тирана и кровожадного убийцы.
Однако вопреки этой версии, поддерживаемой государственной властью, насаждаемой церковью, школой, официальной наукой, в сознании народа, в памяти поколений жили иные представления о Робеспьере, иные воспоминания, иной, непохожий на страшный портрет - человечный и человеческий образ. Как ни старались клеветники очернить великого революционера XVIII века, сквозь многолетние напластования лжи и вымыслов все же пробивался и светился неискаженный, не забрызганный грязью портрет Неподкупного. И новые поколения, вглядываясь в этот чеканный силуэт, отодвигавшийся все дальше вглубь времени, старались разгадать его тайну.
На первый взгляд могло показаться, что головы молодых людей кружила сама исключительность жизненного пути Робеспьера: тридцать лет безвестности, а затем стремительное и ослепляющее, как старт ракеты, восхождение вверх и на самой вершине - падение и гибель. Но если эта внешняя сторона биографии Робеспьера могла привлекать честолюбивые умы и сердца, то для них, конечно, гораздо более притягательным был другой пример необычного жизненного пути, стоявший у всех перед глазами,- путь Наполеона Бонапарта. Аркольский мост, солнце Аустерлица, фанфары побед, золотые пчелы на бархате - эмблема новой императорской династии - все это для честолюбцев и мечтателей в восемнадцать лет во сто раз соблазнительнее суровой строгости черных сукон Комитета общественного спасения. Стендаль был верен исторической правде, когда заставлял своего любимого героя Жюльена Сореля, одаренного и честолюбивого выходца из народа, прятать в матрацах заветный портрет - не Робеспьера, конечно, а Наполеона Бонапарта. Да и посмертная судьба этих двух - каждого по своему - наиболее значительных людей переломной эпохи конца XVIII - начала XIX века была слишком различна. Память Наполеона была увековечена господствующими классами Вандомской колонной, Домом Инвалидов, монументами, сотнями тысяч репродукций, музеями, почти необозримой литературой; но до сих пор во Франции, в столице, где некогда заседал Конвент, и в других городах нет памятника самому замечательному представителю Первой республики, да и имя его в истории Франции еще далеко не звучит во весь голос.
Нет, конечно, не те, кто гнался за славой, триумфом, почестями, оглядывались на Робеспьера и старались постичь сокровенный смысл его необычной судьбы. Представители угнетенных классов, общественных сил, поднимавшихся на революционную борьбу, в героическом опыте якобинской диктатуры и ее вожде Робеспьере видели вдохновляющий пример для подвигов и испытаний.
И первыми, кто должен быть назван в этом ряду, кто смело провозгласил себя наследниками и продолжателями возглавленной Робеспьером борьбы, были Гракх Бабеф и его товарищи по знаменитому "заговору равных".
Они были зачинателями иного, сочувственного Робеспьеру и гораздо более правдивого направления в развитии общественной мысли, и в частности историографии первой французской революции, противостоявшего реакционному и клеветническому направлению. Впрочем, на этом следует остановиться подробнее.
* * *
Возникновение движения "равных", как известно, совпало по времени с политическим и идейным крушением так называемых "левых термидорианцев". Некоторые из них, например Амар, установили прямую связь с "заговором равных" *,** и играли в движении довольно значительную роль. В целом же "левые термидорианцы" Билло-Варенн, Колло д'Эрбуа, Вуллан, Барер и другие оказались далекими от движения "равных", от Бабефа и его соратников не только организационно и идейно, но и в оценке Робеспьера.
* (Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа, т. II. М., 1948, с. 72.)
** (По вандомскому процессу "равных" наряду с Амаром был Ривлечеп также и Вадье, которому, однако, по авторитетному свидетельству Буонарроти, "ничего не было известно о заговоре".)
"Левые термидорианцы", как известно, сыграли большую и зловещую роль в роковых событиях 8-10 термидора*. Большинство будущих участников "заговора равных", как, впрочем, и иные честные якобинцы, например, так называемые "последние монтаньяры" Ромм, Гужон, Бурботт, Субрани и другие будущие жертвы прериаля, в гораздо меньшей мере способствовали низвержению Робеспьера, хотя полностью одобряли переворот. Несмотря на эти различия, и те и другие - по искреннему убеждению, недомыслию или лицемерию, в данном случае это значения не имеет - считали контрреволюционный переворот 9 термидора революционным восстанием или революцией. Даже в одном из ранних документов движения "равных", относящемся к концу 1795 или началу 1796 года, события 27 июля 1794 года именовались "революцией термидора"**.
* (Billaud-Varenne J. N. Mémoire inédit sur 9 thermidor. - "Revue historique de la Révolution francaise". Paris, 1910, p. 57-74, 161-175, 321-336; Trois lettres inedites de Voulland sur le crise, de Thermidor. - "Annales historiques de la Revolution francaise". Paris, 1927, N 19, p. 67-77; Mémoires de B. Barere, membre de la Constituante, de la Convention, du Comité de Salut public et de la Chambre des Representants, publiés par H. Camot et David (d'Anger), t. 1-2. Bruxelles, 1842.)
** (См. Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, т. II, с. 107.)
Но для "левых термидорианцев" очень скоро после переворота стало очевидным, что эта "революция термидора" не повинуется больше их руке и оказывается в действительности вовсе не революцией, а контрреволюцией, когда их стали оттирать на задний план, затем громить и клеймить, затем арестовывать и ссылать, чаще всего даже без соблюдения судебных формальностей, точь в точь как в день 9 термидора, тогда к ним пришло раскаяние.
Психологически было вполне понятно, что все эти Билло, Колло, Вадье - члены могущественных комитетов общественного спасения и безопасности, при всех своих грехах люди стальной закалки - кипели негодованием, видя, как какой-то ничтожный Ровер, цинично признававшийся в том, что он "ласкал собачку Кутона, чтобы завоевать благоволение ее хозяина"*, теперь в Комитете общественной безопасности распоряжается судьбами людей и купается в золоте!
* (Levasseur R. Memoires, t. IV. Paris, 1831, p. 108.)
Конечно, эта запоздалая и уже беспредметная самокритика имела у "левых термидорианцев" свой индивидуальный оттенок. Умный, гибкий, беспринципный Барер де Вьезак, умевший всегда оставаться на поверхности стремительного потока,- Барер, который, будучи в свое время председателем Клуба фельянов, смог позже стать почти единственным бессменным членом Комитета общественного спасения, в своих мемуарах, написанных или редактированных спустя более тридцати лет после трагических событий 1794 года, признавал, что "9 термидора разбило революционную силу". Он утверждал с нескрываемым негодованием, что к власти пришла "контрреволюционная коалиция", состоящая, по его мнению, из преданных Дантону людей, представителей "болота" и секретных агентов Людовика XVIII; он даже именовал их презрительно "термидорианцами"*,**, понятно исключая себя из их числа. Но Барер воспринимал эти события прежде всего как личную катастрофу: термидор стал контрреволюцией не потому, что было свергнуто возглавляемое Робеспьером революционное правительство, а потому, что вскоре после термидора бездарные "любители власти" (amateurs du pouvoir), не прощавшие ему, Бареру, его популярности и талантов, оттеснили его от руководства***,****. Пересматривать же свое отношение к Робеспьеру, политически переоценивать роль Неподкупного в революции - от этого Барер был бесконечно далек. Конечно, как умный человек, он должен был признать и достоинства Робеспьера: "безупречную честность, любовь к свободе, твердость принципов, любовь к бедности, преданность делу народа"; иначе было бы непонятно, как мог он, Бертран Барер разделять с ним славу и власть в Комитете общественного спасения. Но в главном и основном Барер и после длительного опыта торжества буржуазной, а затем феодально-аристократической реакции, повторял в своих мемуарах старую версию о ненасытном, властолюбивом деспотизме Робеспьера и, явно рисуясь, преувеличивал свою роль в событиях 9 термидора *****.
* (Barere B. Memoires, t. 2, p. 210, 211.)
** (Ипполит Карно, предпославший изданным (вместе с Давидом д'Анжером) мемуарам Барера обширное и содержательное введение, указывает, что Барер начал работать над своими мемуарами впервые годы империи, а редактировал их в последние годы своей жизни (он умер в 1841 году).)
*** (Ibid., p. 219-220.)
**** (Барер среди прочих приводимых им в "Мемуарах" свидетельств в свою пользу воспроизводит и сказанные будто бы ему Гране из Марселя слова: "Подай в отставку: этим все будет закончено. Только действуя таким образом, ты обретешь спокойствие, так как эти люди не прощают тебе твоей известности, твоих длительных успехов на трибуне. Надо им уступить и освободить для них место (BarereB. Mémoires, t. II, p. 219-220).)
***** (Ibid., p. 178-214.)
Барер, таким образом, и тридцать лет спустя после падения и гибели Робеспьера продолжал оправдывать борьбу против него как якобы героический подвиг спасения революции от угнетавшей ее тиранической диктатуры.
В распоряжении историка нет, к сожалению, таких же полных, как мемуары Барера, источников, раскрывающих идейные позиции других "левых термидорианцев" после их политического крушения. Приходится довольствоваться обрывочными сведениями, косвенными доказательствами, оставляющими место для догадок.
Из записок Филиппа Буонарроти о встречах с Барером и Вадье в бельгийском изгнании в годы Реставрации, опубликованных в свое время французским историком Матьезом*, мы можем составить отчетливое представление о взглядах и идейных позициях обоих участников переворота 9 термидора.
* (Mathiez A. Le rôle de Barère et de Vadier au 9 thermidor jugé par Buonarroti. - "Annales révolutionnaires", 1911, t. IV, p. 96-102; перепечатана в сб. Mathiez A. Autour de Robespierre. Paris, 1926, p. 235-242.)
Впечатления и суждения Буонарроти о Барере в целом полностью подтверждают тот политический автопортрет, который нарисовал Барер в своих мемуарах, опубликованных примерно пятнадцать лет спустя после этих встреч. Характеристика Барера, данная Буонарроти, свидетельствует о замечательной проницательности и точности суждений автора этих заметок.
Влиятельнейший член Комитета общественной безопасности, непримиримый воинствующий противник церкви и религии, Вадье сыграл немалую роль в подготовке и организации термидорианского переворота. Тридцать лет спустя, когда Буонарроти вновь встретил его* в брюссельском изгнании, это был глубокий старик, перешагнувший за девятый десяток. Но даже этот почтенный возраст не мог внушить Буонарроти уважения к бывшему грозному руководителю Комитета общественной безопасности. Буонарроти пишет о нем в пренебрежительном и недоброжелательном тоне: "Ненавидеть дворян и издеваться над религией - вот вся политика Вадье. Он очень любит равенство, если только имеет хорошие доходы, может выгодно сбыть свои товары и сохраняет некоторое влияние на политические дела"**. Таков престарелый Вадье - без маски, без прикрас, нарисованный Буонарроти с натуры в будничные дни его прозябания. Этот мелочный, обозленный и тщеславный старик, каким его рисует Буонарроти, конечно, считал теперь день 9 термидора гибельным и роковым, ибо отсюда начались бедствия родины, которые он отождествлял со своими собственными несчастьями. Но так же, как и Барер, только грубее и примитивнее, без всяких оговорок, он полностью оправдывал свое участие в борьбе против Робеспьера и повторял все избитые и вымышленные обвинения, выдвигавшиеся против Робеспьера в 1794 году.
* (Буонарроти находился в 1797 году более трех месяцев в заключении на острове Пеле, близ Шербурга, вместе с Вадье, по ошибке привлеченным к делу "заговора равных".)
** (Mathiez A. Autour de Robespierre, p. 238.)
У нас нет данных, позволяющих предполагать какое-либо изменение отношения к Робеспьеру со стороны главарей "левых термидорианцев" - Колло д'Эрбуа и Билло-Варенна.
Самый близкий к эбертистам член Комитета общественного спасения, ответственный за чрезмерные жестокости в Лионе, осужденный революционным правительством - Колло д'Эрбуа, имевший все основания бояться Робеспьера, сыграл одну из главных ролей в решающие дни термидора. Это он председательствовал на роковом заседании Конвента 9 термидора, злоупотребляя своей властью в пользу заговорщиков, и это его Робеспьер в своей последней гневной реплике с места назвал "председателем убийц". Брошенный через несколько месяцев в тюрьму, а затем сосланный в гниющую в тропической лихорадке Гвиану, чтобы найти там смерть, переоценил ли Колло д'Эрбуа на соломе тюремного тюфяка значение событий, в которых он играл столь зловещую роль? На этот счет нет никаких свидетельств; догадки же в данном случае неуместны. Колло д'Эрбуа остался в истории таким, каким его видели 9 термидора,- неистовым, злобным врагом Робеспьера.
Строгий, твердый, оставшийся до конца своих дней убежденным демократом, Билло-Варенн в своих посмертно опубликованных записках оказался гораздо справедливее к Робеспьеру, чем был в действительной жизни. "Если бы меня спросили, каким образом Робеспьер сумел приобрести такое влияние на общественное мнение, я бы ответил, что это было достигнуто путем подчеркивания самых строгих добродетелей, безусловным самопожертвованием, самыми чистыми принципами",- писал Билло-Варенн. Но и он, как и Барер, как Вадье (и даже, может быть, в большей мере, чем они, ибо был принципиальнее их), не склонен был критически переосмысливать роль, сыгранную им летом 1794 года.
Карье, подобно Колло д'Эрбуа, опасавшийся революционного возмездия за преступные жестокости в Нанте, за прямое участие в попытке несостоявшегося восстания эбертистов в марте 1794 года и уже по одному этому ставший деятельным сообщником антиробеспьеристского заговора, оказался, по злой иронии судьбы, одним из первых, кого правые термидорианцы, объявив "охвостьем Робеспьера", потащили на гильотину. Знаменитая фраза Карье в его защитительной речи в Конвенте: "Здесь все виновно, все вплоть до звонка председателя!" - имела ясный подтекст: вся Гора, весь Конвент ответственны за террор и политику насилия, которые ставятся в вину лишь одному ему, Карье. Логика этих рассуждений должна была привести к косвенной реабилитации и Робеспьера. Но эта фраза не имела продолжения. Карье скатывался под откос, и скрытая угроза в этих продиктованных отчаянием словах не помогла ему зацепиться на поверхности. Напротив, будучи хорошо понятой, она лишь ускорила его падение и гибель.
Нужно ли говорить о других "левых термидорианцах"?
Мы и так задержались на них достаточно долго. Но это нужно было для того, чтобы установить, что большинство "левых термидорианцев" и после полного банкротства их политики и их личного крушения продолжали оправдывать свою борьбу против Робеспьера летом 1794 года.
Эта констатация важна и потому, что она объясняет источники возникновения в более поздней, революционно-демократической историографии XIX века второго, враждебного Робеспьеру направления.
8 отличие от "левых термидорианцев" Бабеф и его соратники в период термидорианской реакции и Директории произвели полную переоценку своих взглядов на переломные события июля 1794 года и сознательно изменили свое отношение к Робеспьеру.
Матьез, неоднократно исследовавший вопрос об отношении бабувистов к Робеспьеру, дал наиболее полное изложение своих взглядов по этому вопросу в очень ценной статье "Бабеф и Робеспьер", опубликованной в 1917 году*.
* (Mathiez A. Babeuf et Robespierre. - "Annales revolutionaires", mai 1917, см. также Mathiez A. Etudes sur Robespierre. Paris, 1958, p. 237-250.)
Матьез, напомнив в этой статье, что Бабеф начиная с 1791 года и позже неизменно восхищался Робеспьером, высказывал мнение, будто одобрение Бабефом переворота
9 термидора было только лицемерной данью требованиям времени. "Без сомнения, Бабеф как журналист должен был считаться с общественным мнением,- писал Матьез,- он был вынужден в основанной им 17 фруктидора II года газете дезавуировать Робеспьера и отмежеваться от компрометирующего имени". Но способ, каким он это делал, "не обманывает в истинных чувствах Бабефа"*.
* (Mathiez A. Autour de Robespierre, p. 247.)
С этим мнением согласиться нельзя. Анализ статей Бабефа в "Journal de la liberte de la presse" ("Журнал свободы печати"), выходившем в сентябре 1794 года, и отчасти также в "Le tribun du peuple", служившем его продолжением, показывает, что Бабеф в первые месяцы после 9 термидора, не разобравшись, как и многие другие, в очень запутанной и затемненной различными маскировочными лозунгами обстановке, приветствовал переворот 27 июля, считая его революцией, и осуждал Робеспьера как тирана*. Позиция Бабефа в эти дни была близка к позиции многих других обманутых или обманывавшихся левых демократов, принимавших демагогические лозунги термидорианцев о борьбе "против тирании" за чистую монету. Бабеф, подобно многим другим, наивно верил, что с падением "триумвиров тиранов" должна наступить неограниченная свобода народа. Само название первого печатного органа, издаваемого Бабефом,- "Журнал свободы печати" красноречиво говорило за себя.
* (Pages choisies de Babeuf receuillies, commentees, annotees par M. Dommanget. Paris, 1935, p. 161-224.)
Однако вскоре же под воздействием отрезвляющего опыта термидорианской контрреволюции Бабеф изменил свое отношение к перевороту 27 июля и соответственно пересмотрел и свою оценку его жертв: Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и их места и роли в революции. Анализ идейной эволюции Бабефа в эти последние, решающие два года его жизни не входит в задачу данной работы. Отметим здесь лишь в самой общей форме, что по мере того как Бабеф становился идейным и политическим руководителем движения "равных", он все решительнее менял свою оценку Робеспьера и якобинской диктатуры в пользу последних.
Эта новая оценка Робеспьера и революционной диктатуры была высказана Бабефом в ряде его статей в "Le tribun du peuple"* и была засвидетельствована Буонарроти в его знаменитой истории "заговора равных"**. Но, пожалуй, лучше всего она была сформулирована в частном письме Бабефа к Бодсону от 29 февраля 1796 года, переизданном в конце XIX века Эспинасом. "Я должен сегодня признать свою вину в том, что когда-то видел в черном свете и революционное правительство, и Робеспьера, и Сен-Жюста,- писал Бабеф.- Я убежден, что эти люди сами по себе стоили больше, чем все революционеры, вместе взятые, и что их диктаторское правительство было дьявольски хорошо придумано!" - и дальше: "...Робеспьеризм - это демократия; эти два слова полностью тождественны"***.
* (Cм. "Le Tribun du peuple", N 40, 5 ventose Tan IV (24.11.1796); см. также № 29, 34.)
** (См. Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, т. I, с. 84- 87,108-112,137-140,154-163, 216, 348-349; см. также Далин В. М Люди и идеи. М., 1970.)
*** (Espinas A. La philosophic sociale du XVIII siecle et la Revolution. Paris, 1898, p. 257-258.)
Вот суждение, не оставляющее почвы для кривотолков и какой-либо неясности!
Не только Бабеф, но и другие руководители и участники движения "равных" в дни термидорианской контрреволюции и "буржуазной оргии Директории"* сумели понять и оценить историческое величие Робеспьера. Александр Дарте, один из главных руководителей "заговора равных", казненный вместе с Бабефом, по свидетельству Буонарроти, "рано усвоил убеждения Робеспьера и всеми силами способствовал их осуществлению; со своей стороны Робеспьер весьма дорожил им". Сам Буонарроти определял Робеспьера, как "знаменитого мученика во имя равенства"**, всю жизнь восхищался им, чтил его как "великого человека"***.
* (См. Письмо Ф. Энгельса В. Адлеру. - Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 267.)
** (Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, т. I, с. 141, 87.)
*** (Robiquet P. Buonarroti et la secte des Egaux d'apres les documents inedits. Paris, 1910, p. 178, 203.)
Буонарроти же был первым и наиболее авторитетным автором концепции, устанавливавшей преемственную связь между Бабефом и Робеспьером, между бабувистами и якобинцами. Он показал в своем сочинении не только персональную, но и идейную преемственность между ними, сумел замечательно определить глубоко постигнутое им прогрессивное существо диктаторской политики революционного правительства. Полемизируя против лживых обвинений Робеспьера в тирании, Буонарроти писал: "Тирания Робеспьера заключалась... в силе его мудрых советов, влиянии его добродетели... Он был тираном для дурных людей"*.
* (Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, т. I, с. 141.)
В той же книге, оценивая положительные цели движения "равных" - стремление сторонников Бабефа к осуществлению "законов свободы и равенства", Буонарроти писал, что "Робеспьер был другом такого равенства", рассматривая тем самым его как прямого предшественника движения "равных"*.
* (Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, т. I, с. 160.)
Матьез лишь следовал за концепцией Буонарроти, подчеркивая преемственную связь менаду робеспьеризмом и бабувизмом. Он сделал немало ценного в этой области, разыскав и опубликовав ряд новых документов, еще раз показавших, как высоко ценили Робеспьера, Сен-Жюста и возглавляемое ими революционное правительство Бабеф и его друзья. Но Матьез при этом допустил ошибку двоякого характера. Во-первых, он свел идейные истоки бабувизма если не исключительно, то преимущественно к робеспьоризму и в этом сделал шаг назад по сравнению с Буонарроти и даже с Адвиеллем*, который не грешил такой односторонностью. Во-вторых, в соответствии с присущей ему склонностью к модернизации и поискам социализма там, где его не было и быть не могло, Матьез пытался сблизить позиции Робеспьера и Бабефа, наделив Робеспьера чертами социалистического борца или даже коммуниста**.
* (См. Advielle V. Histoire de Grachus Babeuf et du babouvisme, t. 1-2. Paris, 1884.)
** (Mathiez A. Etudes sur Robespierre, p. 237.)
В советской исторической литературе, в первом, начальном ее периоде, образ коммуниста-утописта конца XVIII столетия привлек, естественно, большой интерес и внимание. Изучение этой темы закономерно привело и к выяснению вопроса об идейном генезисе бабувизма. По этому поводу в свое время разгорелись жаркие споры, в ходе которых наряду с верными мыслями было высказано и немало путаных и ошибочных утверждений. На этих спорах сегодня нет смысла останавливаться хотя бы потому, что авторы наиболее сомнительных или прямо ошибочных положений (Я. М. Захер, П. П. Щеголев) позже сами от них отказались, а главное, за прошедшие с тех пор десятилетия эти споры были так основательно забыты, что уже не могли оказать никакого влияния на последующее развитие советской историографии*.
* (См. Щеголев П. Заговор Бабефа. Л., 1927, см. "Труды первой всесоюзной конференции историков-марксистов", т. II. М., 1930, с. 158-201.)
Однако от споров этих осталась идея, согласно которой генетическая связь бабувизма сводилась исключительно к "Социальному кружку" и "бешеным".
Правда, в советской исторической литературе на протяжении ряда лет отстаивалась более широкая и несравненно более соответствующая исторической правде точка зрения на идейные истоки бабувизма. "Пройдя школу революционных лет, считая себя продолжателями дела якобинцев, бабувисты прочно усвоили идею революционной диктатуры..." - писал академик В. П. Волгин*. Эта формулировка была лишь вариацией старой точки зрения автора по данному вопросу. Конечно, и в цитируемой работе, как и в прежних, В. П. Волгин отнюдь не склонен был сводить идейные истоки бабувизма только к якобинизму. Он подчеркивал и доказывал влияние на бабувистов французских предреволюционных мыслителей - авторов коммунистической теории Мабли и Морелли, особенно последнего. Но, справедливо указывая на то, что бабувисты были их учениками, В. П. Волгин в то же время напоминал, что это не должно быть понимаемо узко; должен быть учтен и последующий исторический опыт, оказавший влияние на формирование взглядов Бабефа и его друзей. "Французская революция многому научила; теоретизировать в стиле Морелли было в 1795 году для бабувистов совершенно невозможно" **.
* (Волгин В. П. Движение "равных" и их социальные идеи. Вступительная статья к работе: Ф. Буонарроти. Заговор во имя равенства, т. I, с. 28.)
** (Волгин В. П. Движение "равных" и их социальные идеи. Вступительная статья к работе: Ф. Буонарроти. Заговор во имя равенства, т. I, с. 22-23.)
К сожалению, эти верные суждения не были должным образом учтены рядом авторов, касавшихся данного вопроса. Исторический конкретный анализ предмета был заменен повторными ссылками на известную полемическую фразу Маркса против Бруно Бауэра из "Святого семейства", заслонившую невольно ряд других суждений Маркса и Энгельса по тому же вопросу. В частности, не уделялось должного внимания иному определению идейных истоков бабувизма, данному Энгельсом почти в то же время, в 1845 году: "...Бабёф и участники его заговора сделали в отношении равенства самые далеко идущие выводы из идей демократии 1793 г., какие только были возможны в то время"*. Несомненно, что как и известное суждение Маркса в "Святом семействе", так и это требует вдумчивого отношения, но отнюдь не сталкивания цитат.
* (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 589.)
Бабувисты вовсе не были духовными сыновьями Жака Ру и Варле и внуками Клода Фоше и Никола де Бонвилля, как получается по полюбившейся схеме прямолинейного родства. Их идейная генеалогия была и сложнее, и разветвленнее.
Подробное рассмотрение этого вопроса увело бы нас в сторону от основной темы. Представляется, однако, бесспорным на основании всего сказанного ранее считать Робеспьера и вообще якобинцев робеспьеристского направления в числе идейных предшественников Бабефа.
Впрочем, яснее и определеннее, чем любые исторические исследования, этот вопрос осветил наиболее авторитетный в данном вопросе автор - сам Гракх Бабеф. В цитированном ранее письме к Бодсону 1796 года Бабеф писал: "Я не нахожу, как ты, неполитичным и излишним восстановление в памяти праха и принципов Робеспьера и Сен-Жюста для укрепления нашей доктрины. Прежде всего мы этим лишь воздаем должное великой истине... Эта истина в том, что мы лишь вторые Гракхи Французской революции... что мы лишь следуем за первыми благородными защитниками народа, которые еще до нас поставили ту же цель справедливости и счастья, воодушевлявшую народ"*.
* (Цит. по: Espifias A. La philosophic sociale du XVIII siecle et la Revolution, p. 257-258.)
* * *
Итак, Робеспьер, убитый и оклеветанный термидорианцами, все-таки не был окончательно умерщвлен.
Через два года после гибели его тень встала за плечами Бабефа и Дарте, и в новом слове, сказанном "равными", представлявшем сплав голосов прошлого и будущего, был явственно различим и глухой голос Максимилиана Робеспьера.
Но весной 1797 года Бабеф и Дарте, как и ранее Робеспьер, были казнены теми же термидорианцами. Реакция усиливалась. Со времени 9 термидора на протяжении тридцати пяти лет политическая история Франции круто поворачивала в одном направлении - вправо: термидорианский Конвент, Директория, Консульство, империя, реставрированная монархия Бурбонов. Эти этапы отмечали эволюцию от буржуазной контрреволюции республиканцев термидорианцев до феодальной контрреволюции роялистов Людовика XVIII.
В эти годы все нараставшей политической реакции не говорили вовсе о революции, а следовательно, и о ее героях или говорили только дурное. В период Директории цинично глумились над революцией (я имею в виду ее высший, якобинский этап); во времена Наполеона она была вычеркнута из истории Франции полицейским циркуляром, о ней не смели вспоминать даже шепотом, даже в узком кругу; во времена Людовика XVIII и Карла X, братьев казненного короля, на революцию обрушивались с высоты реставрированного престола проклятия и ее поносили на всех перекрестках.
Робеспьер - самый замечательный представитель героической эпохи революции в полной мере разделял ее судьбу. Могло казаться, что стараниями его посмертных врагов - врагов революции имя его будет вычеркнуто из памяти народа.
Первые мемуаристы и историографы революции вроде Сиейеса*, взявшиеся в годы Директории за перо, чтобы отомстить за страх и унижение, испытанные ими в дни террора, видели свою главную задачу в том, чтобы чернить того, кого они считали чуть ли не единственным виновником всех "преступлений",- так в дни контрреволюционного террора стали именовать революционный террор.
* (Cм. Sieyes E. S. Oeuvres politiques, t. 1-2. Paris, 1796.)
В годы консульства и империи кончилось даже и это. Робеспьера нельзя было даже ругать. Бывший артиллерийский капитан, покровительствуемый комиссарами Конвента Огюстеном Робеспьером и Саличетти, став императором Наполеоном, приказал предать забвению тех, с кем были связаны его первые решающие успехи на жизненном пути.
Реставрация нарушила это кладбищенское молчание, но только затем, чтобы забросать комьями грязи и клеветы революцию и ее действующих лиц. Писания Бональда, Шатобриана* и других дворянско-клерикальных историков и публицистов были лишь яростной инвективой против революции и ее вождей. Ненависть так слепила этих писателей, что вся яркая, многокрасочная картина революции оказывалась в их изображении залитой сплошным черным цветом. Поэтому-то среди множества дворянских идеологов и публицистов периода Реставрации - а некоторым из них, хотя бы тому же Шатобриану, нельзя было отказать в таланте - не оказалось ни одного крупного историка минувшей эпохи.
* (Bonald L. G. Pensees sur divers sujets et discours politiques, t. 1-2. Paris, 1817; Chateaubriand F. A. Oeuvres completes, t. 2-3. Paris, 1836-1837.)
Но в ту пору, когда политическая эволюция вправо дошла до своего логического конца - до господства ультрароялистов и закона о вознаграждении эмигрантов, в ту пору, а для проницательных умов и раньше, стало очевидным, что как ни свирепствовала дворянско-клерикальная реакция, она была не в силах повернуть историю вспять и остановить то поступательное развитие страны по новому, капиталистическому пути, который проложила первая французская революция.
Частично работа "Рассуждения о французской революции" де Сталь, а затем уже вполне определенно исторические сочинения Минье и Тьера*, реабилитировавшие в целом революцию, представляли точку зрения выросшей, окрепшей и претендующей на полноту власти либеральной буржуазии.
* (De Sta'el A. L. G. Considerations sur les principaux evene-ments de la Revolution francaise, t. I-III. Paris, 1818; Mignet P. Histoire de la Revolution francaise depuis 1789 jusqu'en 1814, t. 1-2. Paris, 1824; Thiers A. Histoire de la Revolution francaise, t. 1-6. Paris 1823-1827)
Общее значение работ буржуазных историков периода Реставрации, и в частности их отношение к революции, настолько выяснено в марксистской литературе, что нет нужды на этом останавливаться. Но следует отметить, что как и для Сталь, так и позже для Минье и для Тьера, произнесших, каждый в своей манере, защитительную речь в пользу революции, Робеспьер был, конечно, не в числе подзащитных, а на скамье обвиняемых.
Де Сталь, примешивая к своим "рассуждениям" смутные воспоминания о годах своей молодости, преображенных ее творческим воображением, создала один из наиболее искаженных портретов Робеспьера *,**. Минье был готов довести свои демократические симпатии до признания заслуг Дантона, который рисовался ему "исполином среди революционеров". Но к Робеспьеру он питал отвращение и ненависть: он считал его человеком, в полной мере обладавшим всем, что нужно для тирании, сыгравшим ужасную роль в революции***. Тьер, с молодых лет инстинктивно испытывавший почтительность ко всякому авторитарному представителю исполнительной власти (вспомним замечание Маркса о том, как он "чистил сапоги" Наполеону в своей "Истории консульства и империи)", проявил к Робеспьеру большую сдержанность, чем его собрат той поры Минье. Однако и он, конечно, оставался безусловно враждебен Робеспьеру.
* (De Stacl. A. L. G. Considerations.., t. II, p. 140-142.)
** (Кажется, опа была первой, кто создал легенду о зеленом цвете (она писала о зеленого цвета веках Робеспьера), так раздутую потом и обыгранную Карлейлем (Т. Carlyle. The French Revolution. London, 1838). Но следует отметить, что, открыто высказывая ненависть к Робеспьеру, она признавала, что из всех имен, рожденных революцией, единственное, которое сохранится,- это имя Робеспьера.)
*** (Минье Ф. История французской революции. Пер. с франц. СПб., 1906, с. 187, 203.)
Здесь пролегала демаркационная линия, отделявшая либеральную буржуазию от демократической буржуазии, от классов, стоявших левее ее.
"Признав" французскую революцию и, более того, в годы своего "левения" подняв трехцветный флаг революции как свое боевое знамя, либеральная буржуазия принимала не всю революцию целиком, а лишь до известных пределов - до Жиронды включительно, а некоторые авторы - до Дантона. Робеспьер оставался на противоположной стороне, там, где мир зла отделялся от мира добра.
Линия размежевания была очерчена резко и определенно: фракции и группировки в революции от жирондистов и до Дантона включительно - это политическое наследство, приемлемое для либерализма; группировки, начиная от Робеспьера и левее его,- это политические предшественники лагеря демократии.
Если так непримиримо-враждебно определяли свое отношение к Робеспьеру представители либеральной буржуазии в пору ее "левения", в годы Реставрации, когда буржуазия еще мечтала о завоевании господства, то после буржуазной революции 1830 года, приобщившей часть ее - денежную аристократию к власти, и после опыта революции 1848 года и Второй республики эти настроения еще более укрепились.
Альфонс де Ламартин в "Histoire de girondins" - многотомном стихотворении в прозе, поэтизировавшем Жиронду*, был, конечно, враждебен Робеспьеру. Но при всех своих политических пороках Ламартин был поэтом, не лишенным таланта и дара художественного восприятия. Он не мог поэтому не почувствовать исторического величия Робеспьера. Рисуя его роль в революции как зловещую и губительную, хотя и чистую по личным побуждениям, Ламартин все же признавал, что с "Робеспьером и Сен-Жюстом закончился великий период Республики. Начиналось второе поколение революционеров. Республика пала с высоты трагедии до интриги..."**.
* (De Lamartine A. Histoire des girondins, t. I-VIII. Paris, 1848 (в дальнейшем цитируем по изданию 1884 г.).)
** (Ibid., t. IV, p. 353.)
Но пятнадцать лет спустя, после испытаний революции 1848 года, в которой он играл столь бесславную роль, после уроков классовой борьбы в годы Второй республики, умудренный опытом, Ламартин в 1801 году выступил с критикой своей же "Histoire de girondins". И возвращаясь к оценке Робеспьера в этом сочинении, Ламартин, уже не поэт, а бывший министр Временного правительства, вносил в нее существенные поправки: "Я был бы сегодня, может быть, более строг (в оценке Робеспьера. - Л. М.), так как я видел его тень на улицах в 1848-м..."*. В этих словах, вырвавшихся из-под пера Ламартина, и раскрыт секрет усиливавшейся враждебности его, и не только его, а всей буржуазии, к Робеспьеру после 1848 года.
* (De Lamartine A. Critique de l'histoire des girondins par I'auteur des girondins lui - meme a quinze ans de distance (octobre 4861). Опубликовано в приложении к: de La marline A. Histoire des girondins, t. IV, p. 544.)
Странное дело, естественно было предполагать, что, чем дальше уходили десятилетия от грозного 93 года, тем тише должны были становиться страсти, должна была остывать злоба, личная приязнь или вражда; все умеряющее время должно было, казалось, потушить последние огоньки волнений, пристрастий, оставшихся от этой бурной эпохи.
Но в действительности все было не так. Не только историки, представлявшие крупную буржуазию, но и ряд авторов явно мелкобуржуазных по политическим взглядам, по характеру мышления, по общественным идеалам, как, например, Мишле или Эдгар Кинэ или из нефранцузских авторов Томас Карлейль, писали о Робеспьере с трудно объяснимым раздражением и злобой*. И для них линия размежевания добра и зла в истории великой революции XVIII века оставалась строго в границах, начертанных впервые Минье: все приемлемое заканчивалось на жирондистах и Дантоне; дальше, от Робеспьера, начинался страшный мир социального зла.
* (Michelet J. Histoire de la Revolution francaise, t. 1-7. Paris, 1847-1853; Quinet E. La revolution, t. 1-3. Paris, 1877; Carlyle T. The French Revolution. London, 1838.)
А если обратиться к такому историку, как Ипполит Тэн, писавшему о революции спустя почти сто лет после ее начала* и прошедшему, таким образом, уже через опыт Парижской Коммуны, то у него явственно обнаруживалась какая-то иная мера вражды к революции вообще и к Робеспьеру в частности. Это была уже не антипатия, не злоба, а какое-то исступление, неистовство ненависти, облеченное в литературные формы, которым накал ярости придал даже внешний блеск.
* (Taine H. Les origines de la France contemporaine. La Revolution, t. 1-3. Paris, 1878-1899.)
Так в чем же было дело? Что было источником неутихающей ненависти буржуазии и ее историков к Робеспьеру? Почему она принимала жирондистов и Дантона и с негодованием отвергала Неподкупного?
Если вдуматься в те доводы, которыми обосновывалась отрицательная оценка Робеспьера, то они у большинства буржуазных авторов были весьма сходны.
Огонь по Робеспьеру вели главным образом с моральных и этических позиций: его обвиняли в том, что он был жесток, тщеславен, кровожаден, властолюбив, что он погубил много людей, был деспотом и тираном. Некоторые присоединяли к этому элементы эстетического разоблачения: он был невысок ростом, у него был глухой голос, зеленый - по легенде, созданной мадам де Сталь,- цвет лица и т. д.
Но фальшь и несостоятельность всех этих аргументов становятся вполне очевидными, как только речь зайдет о другом выдающемся деятеле той эпохи - о Наполеоне Бонапарте. Все обвинения морального и этического порядка, выдвигаемые против Робеспьера, с гораздо большим основанием могли быть адресованы ему. Бонапарт был в действительности и тщеславен, и жесток, и властолюбив, и погубил великое множество людей, и был деспотическим повелителем Франции и половины Европы. Наконец, он был также невысок ростом, и у него был нездоровый цвет лица, как находили многие очевидцы. Но Бонапарт, как известно, вызывал у буржуазии и ее историков не злобу и ненависть, а восхищение. Следовательно, осуждение Робеспьера в морально-этическом плане было лишь лицемерием, маскировкой, скрывавшей подлинные причины вражды к нему буржуазии.
Разгадка источника этой возраставшей вражды содержалась уже в приведенных выше словах Ламартина из его автокритики 1861 года.
Робеспьер был и оставался в. глазах буржуазии олицетворением революционной демократии. Его имя всегда связывалось в ее представлении с народом, поднявшимся на борьбу, властно вмешавшимся в жизнь, полным неукротимой энергии революционным народом.
Мирабо, фельяны, жирондисты были представителями разных групп собственно буржуазии, и их политика на всех этапах революции всегда оставалась политикой буржуазных верхов общества. Дантон представлял политику компромисса, соглашения с этими группами; его популярность как народного трибуна придавала ему лишь еще большую цену.
Робеспьер, хотя, как это признают все буржуазные авторы, был человеком не из народа, а из буржуазии, и тем не менее никогда не проводил и не защищал интересов буржуазных верхов, а вел против них борьбу, опираясь на народ и во имя интересов народа. Кпнэ так прямо и писал, что Робеспьер, после падения Жиронды, стал ссорить народ с буржуазией*.
* (Quinet E. La revolution, t. II, p. 219-220.)
Этого было вполне достаточно, чтобы пробудить неугасающую ненависть к Неподкупному.
Но по мере того как буржуазия, овладев властью, вступала во все более острую борьбу с народом и его авангардом - пролетариатом, ее враждебность к Робеспьеру, естественно, возрастала.
В 1848 году после июньского восстания парижского пролетариата - гражданской войны в своем самом страшном обличий - войны труда и капитала* так называемая либеральная буржуазия сделала еще один шаг в своей эволюции вправо. И Ламартин, один из непосредственных виновников июньской трагедии (вспомним слова Маркса: "...фейерверк Ламартина превратился в зажигательные ракеты Кавеньяка"**, которые выразили новую контрреволюционную ипостась буржуазии), признавался, что, после того как он увидел тень Робеспьера на парижских улицах 48-го года, он бы судил его более строго. Это был не личный суд Ламартина - поэта, историка, министра, это был классовый суд буржуазии.
* (См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 29.)
** (См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 29.)
Но за июньским восстанием 1848 года последовала Парижская Коммуна 1871 года и за академическими поправками Ламартина - написанный желчью, стоящий на грани площадной брани пасквиль против революции академика Ипполита Тэна,
* * *
В течение столетия дворянская и буржуазная историография хулила Робеспьера и чернила его память, исключив его имя из истории французской славы. Она хотела навсегда отвратить от него народ...
Что же было противопоставлено этим усилиям?
Продолжал ли жить в сознании народа и оказывать влияние на его борьбу давно казненный и оклеветанный Робеспьер? В. И. Ленин писал: "...французская революция, хотя ее и разбили, все-таки победила, потому что она всему миру дала такие устои буржуазной демократии, буржуазной свободы, которые были уже неустранимы"*. Эти замечательные ленинские мысли, столь важные для понимания всей истории нового времени, дают очень многое и для частного вопроса - понимания посмертной судьбы Максимилиана Робеспьера.
* (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 367.)
Всякий раз, когда требования исторического развития заставляли "осуществлять по частям" задачи, выдвинутые Великой французской революцией, в памяти народов закономерно оживал образ одного из самых выдающихся ее деятелей - Максимилиана Робеспьера.
Об этом можно было судить не только по разным формам практической деятельности-возрождению революционно-республиканского движения, созданию подпольных революционных групп и т. п. Об этом свидетельствовали исторические сочинения, прямо или косвенно посвященные Неподкупному, само появление которых было также глубоко закономерным.
Во Франции накануне второй революции - буржуазной революции 1830 года вышли одни за другими мемуары Буонарроти и Левассера*.
* (Buonarroti Ph. Conspiration pour l'Egalile elite de Babeuf, suivie du proces auquel elle donna lieu, et des pieces justicatives... 1828. См. русск. изд. под ред. акад. В. П. Волгина. М., 1948; Levasseur R. Memoires, t. 1-4. Paris, 1829-1831.)
Знаменитая книга Буонарроти о "заговоре равных", как уже говорилось, впервые после казни Бабефа открыто провозглашала Робеспьера величайшим деятелем революции; Левассер, якобинец железной закалки 93-го года, которого ни скитания, ни гонения не заставили склонить головы, в годы безвременья с гордостью вспоминал о великих людях великой эпохи и о первом среди них - о Неподкупном *,**.
* (См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. III. M. - Л., 1929, с. 599- 611.)
** (Следует напомнить в этой связи, что Маркс с большим вниманием штудировал и даже конспектировал мемуары Левассера (см. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. III, с. 599-611).)
Накануне третьей революции - революции 1848 года и Второй республики Робеспьер был прославлен в работах, различных по характеру и значению, Бюше и Луи Блана.
Бюше, своеобразный христианский социалист сенсимонистской школы, в годы июльской монархии вместе с Ру предпринял обширное издание документальных материалов - почти исключительно политического содержания - эпохи французской революции*. Эта публикация сохраняет определенную научную ценность и в наши дни. Но для того времени ее выход был крупным событием. В годы мещанского царства короля-буржуа, ничтожных и низменных интриг, копеечного скопидомства и мелких корыстных расчетов со страниц публикуемых Бюше и Ру томов вдруг заговорили совершенно иные голоса - молодые и могучие, перекликавшиеся с громами революционной бури, предстали совершенно иные образы, как бы отлитые из бронзы, образы "гигантов цивизма", как говорил в свое время А. И. Герцен.
* (Buchez Ph. et Roux P. С. Histoire parlementaire de la revolution francaise, ou journal des Assemblies nationales depuis 1789 jusqu'en 1815, t. 1-35. Paris, 1834-1838.)
Самыми замечательными творцами революции Бюше считал якобинцев, а самым замечательным из якобинцев - Робеспьера. И он щедро распахнул перед ним двери своего издания. Впервые - прошло сорок лет после термидора - голос Робеспьера снова зазвучал для нового поколения французов, которое должно было вскоре создавать Вторую республику. И конечно, для этой новой поросли республиканцев гораздо красноречивее были речи самого Робеспьера, чем восторженные, но крайне сумбурные комментарии редактора Бюше.
Луи Блан, который начал издавать свою двенадцати томную "Историю французской революции" за два года до февральской революции, выступил в своем сочинении восторженным апологетом Робеспьера. Но Луи Блан главную часть своей работы писал уже после революции 1848 года*.
* (Blanc L. Histoire de la Revolution francaise, t. 1-12. Paris, 1847-1862.)
Надо признать, что сочувственная оценка Робеспьера Луи Бланом, как и само его сочинение в целом, были для своего времени небесполезны. Полемизируя с Мишле, Тьером, Ламартином и другими историками, Луи Блан защищал от их измышлений Робеспьера и в этом в большинстве случаев был прав,
Конечно, это не значило, что автор "Организации труда", мелкобуржуазный реформист, праотец "соглашательства", как определял в 1917 году В. И. Ленин его политику*, стал настоящим якобинцем эпохи революционного террора. Отнюдь нет! Луи Блан, как он ни вытягивался на носках, как ни старался, не мог дотянуться до плеча Неподкупного. В политике, в революции 1848 года Луи Блан и его сотоварищи из мелкобуржуазных соглашателей, охвостье которых позже провозгласило себя "Новой горой", заимствовало от подлинных якобинцев 93-го года только внешние черты их ораторского стиля. Но у тех сильные, но скупые слова сопровождали еще более сильные действия. У Луи Блана, Ледрю-Роллена, у героев "Новой горы" звонкая фразеология лишь прикрывала отсутствие действий; они подменяли фразой отказ от политики революционной, классовой борьбы. Это была лишь жалкая пародия на роль настоящей Горы, один из эпизодов фарсового дублирования в 1848 году трагедии 1789-1794 годов, как это блестяще показал Маркс в своем знаменитом "Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта"**.
* (См. оценку Луи Блана В. И. Лениным в Поли. собр. соч., т. 31, с. 127-130, 312-313, 468, 472; т. 32, с. 310-312, 343-346.)
** (См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 119 и сл.)
Луи Блан начал свою "Историю французской революции" до февраля 1848 года, а закончил ее в лондонской эмиграции в 1862 году. Его занятия политикой, когда он в действительной жизни Второй республики играл жалкую, фарсовую роль, пародируя Робеспьера, и его занятия историей, когда он эмигрировал из действительности в подлинно трагедийный мир Первой республики, описывая героическую жизнь Робеспьера, так тесно переплелись между собой, что первое не могло не влиять на второе.
Та "слабость, шаткость, доверчивость к буржуазии", которыми В. И. Ленин определял Луи Блана как мелкобуржуазного политика*, были в известной мере присущи ему и как историку, хотя как историк он был многим сильнее, чем политик. Все его сочинение было внутренне глубоко противоречиво. Прославляя Робеспьера и оправдывая его действия, Луи Блан в то же время преуменьшал глубину расхождений между Горой и Жирондой и, хотя и со множеством оговорок, внушал мысль о том, как полезно было бы их примирение. Далее Луи Блан на протяжении всего своего сочинения безоговорочно одобрял политику и действия Робеспьера; он выступал его панегиристом.
* (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 32, с. 346.)
А между тем отнюдь не все в политике Робеспьера заслуживало одобрения. Робеспьер сохранил в силе антирабочий закон Ле Шапелье; он поддерживал распространение максимума и на заработную плату рабочих; он проявлял непонимание интересов и нужд рабочих, равнодушие к их требованиям; он обнаруживал такое же равнодушие к интересам сельской бедноты; он ничего не сделал для улучшения их положения; он наносил удары не только по врагам республики, но и по представителям левых группировок в революции - "бешеным", затем Шометту.
Я перечисляю здесь лишь некоторые факты и черты политической биографии Робеспьера, в которых ясно проступали противоречивость и слабость его как буржуазного - великого, но все же буржуазного - революционера. Следовать примеру Робеспьера, следовать традиции якобинизма в новых исторических условиях, когда на арену классовой борьбы вышел пролетариат, по меньшей мере означало некритическое повторение всего опыта якобинизма, идеализацию якобинизма и его вождей.
Луи Блан безоговорочно одобрял Робеспьера целиком всю его политику от начала до конца. Политические ошибки и слабости вождя якобинцев Луи Блан отнюдь не воспринимал как ошибки, напротив, он возводил их в гражданскую добродетель. Это было тоже извращением исторического образа Робеспьера, хотя и. с другой стороны.
Эта линия была продолжена во французской историографии Амелем, шедшим за Луи Бланом в безоговорочном одобрении всей политики Робеспьера, и другими, менее значительными писателями. Но направление, основоположником которого можно считать Луи Блана, оказалось весьма живучим и позже и, хотя и с большими модификациями, давало о себе знать в трудах даже столь различных историков, как Олар и Матьез.
Накануне четвертой революции - буржуазно-демократической революции 1870 года и Третьей республики, в годы кризиса бонапартистского режима, вновь появилось множество книг, связанных с историей Великой французской революции, и среди них первые исторические сочинения, глубоко сочувственные по направлению, специально посвященные левым деятелям революции, якобинским вождям Робеспьеру, Марату, Сен-Жюсту*. Само это явление было весьма симптоматичным: оно показывало, как по мере развития и обострения классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией оживали, казалось, забытые тени прошлого - вожаки первых революционных битв - и неожиданно какими-то своими чертами оказывались близкими, понятными и нужными народу в иную историческую эпоху.
* (Hamel E. Histoire de Robespierre d'apres des papiers de famille, des sources originales et des documents entierement inedits, 1.1-III. Paris, 1865-1867; Bougeart A. Jean Paul Marat, ami du peuple, t. 1-2. Paris, 1865; Hamel E. Histoire de Saint-Just depute a la Convention nationale, t. 1-2. Bruxelles, 1860.)
Правда, здесь следует сказать, что в это же примерно время в рядах демократии раздались и открыто враждебные голоса. С осуждением, резким, непримиримым, всей деятельности Робеспьера выступил Огюст Бланки. Знаменитый революционер XIX века критиковал Робеспьера, так сказать, слева. Он считал Робеспьера "преждевременно созревшим Наполеоном", диктатором и тираном и особенно ставил ему в вину его борьбу против сторонников дехристианизации и "идей верховного существа"*. Откуда взялась у Бланки такая крайняя враждебность к Робеспьеру? Матьез, впервые в 1928 году опубликовавший переданные ему Молинье заметки Бланки, объясняет ее прежде всего неосведомленностью "заключенного" в истории французской революции и тем, что сведения о ней он черпал из "Истории жирондистов" Ламартииа. Матьез так и пишет: "Это заметки политического деятеля, который не знал историку кроме как по скороспелой и полной ошибок работе другого политического деятеля", т. е. Ламартина.
* (MathiezA. Notes inedites de Blanqui sur Robespierre. - "Anna-leshistoriques de la Revolution francaise", 1928, N 28, p. 307-318.)
С этим мнением Матьеза нельзя согласиться. Ссылки на "Историю жирондистов" Ламартина, которые действительно имеются в рукописи Бланки, можно объяснить, на мой взгляд, лишь тем, что в Дуланской тюрьме, где Бланки в 1850 году писал свои заметки, в его распоряжении не было иных книг, кроме Ламартина. Но считать, что Бланки, сын депутата Конвента, ученик Филиппа Буонарроти, член "Общества друзей народа", от самих собраний которого, по образному выражению Гейне, "веяло как от зачитанного, замусоленного экземпляра "Moniteur" 1793 года"*, сподвижник Годефруа Кавеньяка и других "молодых якобинцев" 30-х годов, считать, что Бланки знал французскую революцию только по сочинениям Ламартина,- это значило поддаться ослеплению мгновенного чувства досады или раздражения.
* (Гейне Г. Поли. собр. соч., т. 6. М.-Л., 1936, с. 49.)
По ряду косвенных доказательств можно предположить, что Бланки в этом вопросе находился под влиянием не Ламартина, конечно, а исторической литературы "левых термидорианцев", о которой шла речь в начале главы.
Как бы то ни было, но эти заметки Бланки сыграли известную роль в спорах о Робеспьере. Хотя при жизни их автора они остались неопубликованными, но они распространялись в рукописных копиях среди его приверженцев. Под непосредственным влиянием исторических взглядов Бланки появились сочинение его ближайшего ученика Гюстава Тридона, выступившего с открытой апологией эбертистов и нападками на Робеспьера, и в некоторых отношениях близкая к ним работа Авенеля об Анахарсисе Клоотсе*.
* (Tridon G. La Commune de Paris en 1793. Les hebertistes. Bruxelles, 1871 (первое издание вышло в 1864 г.); Avenel G. Anachar-sis Cloots, l'orateur de genre humain, t. 1-2. Paris, 1865.)
Так в историографии робеспьеризма на демократическом ее фланге наряду с сочувственным Робеспьеру направлением сохранялось, вступая в споры с первым, и антиробеспьеристское направление, атаковавшее Робеспьера, так сказать, "слева". Это направление шло от "левых термидорианцев" - безбожников, атеистов Барера, tfадье к Бланки, от него - к Тридону и далее соприкасалось какими-то сторонами с анархистской концепцией Французской революции П. А. Кропоткина*.
* (См. Кропоткин П. Собр. соч., т. II (Великая французская революция 1789-1793). М., 1919.)
Но это враждебное Робеспьеру течение и в лучшие свои дни, когда оно было представлено славным именем Бланки, не приобрело в демократической литературе большого значения. Даже огромный авторитет и моральный престиж Бланки не смогли обеспечить поддержки его антиробеспьеристских взглядов рядом ближайших его сторонников. Так, его старейший сподвижник Мартен Бернар выступал самым горячим поклонником Неподкупного *,**.
* (Матьез, справедливо обративший внимание на глубокое расхождение в оценке Робеспьера между Бланки и Мартен Бсрпаром, высказал не лишенную оснований догадку, что Бланки не опубликовал своих заметок о Робеспьере, опасаясь породить разногласия в рядах собственной партии ("Annsrles historiques de la Revolution francaise", 1928, N 28, p. 306-307).)
** (Bernard M. Dix ans de prison au Mont-Saint-Michel et la citadelle de Doullens. Paris, 1851.)
Преобладающим направлением в демократической историографии была тенденция горячей защиты Робеспьера. В тс же 60-е годы XIX века появилось первое сочинение, написанное французским историком, пытавшимся на протяжении полутора тысяч страниц восстановить день за днем жизнь великого деятеля революции. Эрнест Амель, автор этого труда, всячески подчеркивавший свое беспристрастие, свою "внепартийность", в то же время не скрывал глубокого восхищения героем своего повествования *.
* (Hamel E. Histoire de Robespierre, t. I, p. I-XV.)
В историографии первой французской революции к трудам Амеля сохранилось сдержанное или даже пренебрежительное отношение, в чем повинен в известной мере Матьез. На мой взгляд, оно незаслуженно. Для своего времени Амель сделал много. В создании научной биографии Робеспьера его работа имела такое же крупное значение, как труд Бужара о Марате. Исследование Амеля было трудом реставратора, соскребавшего со старого портрета наслоившиеся за долгие десятилетия сгустки черной краски и восстанавливавшего по частям его первоначальные линии и цвет.
Но если работа Амеля по своему идейному содержанию и заслуживает критики, то это прежде всего за его, если так можно сказать, позицию "круговой обороны" всей деятельности Робеспьера. Амель брал под защиту и пытался представить политической добродетелью все действия Робеспьера, в том числе и те, которые были ошибочными. Короче говоря, Амель нуждается в критике за то, что он недостаточно критикует Робеспьера.
Итак, всякий раз, когда развитие исторического процесса во Франции ставило задачи "доделывания", как говорил В. И. Ленин, начатого первой французской революцией, из далекого прошлого выплывал, и раз от разу все явственнее, все зримее, как бы все увеличиваясь и вырастая, представал и приближался к новым поколениям образ великого революционера XVIII века Максимилиана Робеспьера.
Но XIX век был веком буржуазно-демократических революционных движений, начатых первой французской революцией, не только для Франции, но и для других стран Европы. В каждой стране развитие этих исторических процессов имело, понятно, очень большое своеобразие. Но тем примечательнее, что в своей второй, посмертной судьбе ославленный Робеспьер, перешагнув границы своей родины, смог быть понятым и признанным передовыми людьми в близких и далеких от Франции странах.
Через полвека после смерти Робеспьера, в начале 40-х годов, в далекой России, скованной мертвящей властью Николая I, нашлись в обеих столицах русские молодые люди, объявившие себя приверженцами Робеспьера. Правда, эти молодые люди не обладали ни высокими чинами, ни званиями, но зато у них было иное: они представляли будущность своего народа.
Из воспоминаний И. И. Панаева*, подтвержденных и его двоюродным братом В. А. Панаевым**, известно, что зимой 1841 -1842 годов по субботам Иван Панаев у себя на квартире в кругу друзей Белинского читал историю французской революции. Источником для Панаева служили упомянутая "Парламентская история французской революции" Бюше и Ру, "Moniteur" (очень полно воспроизводившие, как известно, речи Робеспьера) и литература***,****. После чтения возникли споры. Как свидетельствует Панаев, Маслов и "некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров"*****.
* (Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 242-243.)
** (См. "Русская старина", 1901, № 9, с. 483-484.)
*** (См. Панаев И. И. Указ. соч., с. 414-415.)
**** (И. Ямпольский в весьма обстоятельном комментарии справедливо указывает, что Белинский и ранее был хорошо знаком французской революцией и имел вполне определенное суждение о ней (см. Панаев И. И. Указ. соч., с. 414-415).)
***** (См. Панаев И. И. Указ. соч., с. 243.)
Но не только Белинский и Панаев были приверженцами Робеспьера. В ту пору такой же молодой Александр Герцен писал: "Максимилиан один истинно великий человек революции, все прочие необходимые блестящие явления ее и только"*. В "Былом и думах" Герцен признавался, что в ту пору, в начале 40-х годов, он завидовал силе Робеспьера. Его друг Николай Кетчер "вместо молитвы на сон грядущий читал речи Марата и Робеспьера"**. Так молодые люди, представлявшие в то время цвет России, ее надежду, определяя своими симпатиями свои политические позиции, объединялись вокруг Горы и ее вождя - Робеспьера.
* ("Литературное наследство", т. 56. М., 1950, с. 80.)
** (Герцен А. И. Соч., т. 9. М., 1956, с 227.)
Но первые споры 41-го года, разделившие кружок Белинского на сторонников жирондистов и приверженцев монтаньяров, имели свое продолжение в острых и принявших принципиальный характер разногласиях между Белинским и Герценом, с одной стороны, и Т. Н. Грановским - с другой*. Предмет этих споров был по-прежнему связан в значительной мере с личностью Робеспьера, но сущность их была и глубже, и шире. Здесь начиналась линия межевания, здесь расходились две дороги: путь революционной демократии и путь либерализма.
* (См. "Литературное наследство", т. 56, с. 80; Т. Н. Грановский и его переписка, т. II. М., 1897, с. 439-440.)
Споры о Робеспьере в кругах передовой русской общественности середины XIX века были спорами о завтрашнем дне России, о путях ее развития, о будущей русской революции.
Что привлекало в Неподкупном таких людей, как Белинский, молодой Герцен и их друзья? Глубокий демократизм Робеспьера, его непоколебимая вера в народ, его бесстрашие, решимость, непреклонность революционера - все то, что внушало страх и отталкивало от него передового, просвещенного, но всегда остававшегося барином Т. Н. Грановского.
Русские революционные демократы открыли в Робеспьере своего предшественника. Перед ними стоял грозный враг - самодержавно-крепостнический строй, душивший все живые силы русского народа. И победить его можно было, в этом они убедились, "не сладенькими и восторженными фразами" либералов, к чему на деле сводилась позиция Грановского, а "обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов", как справедливо писал в полемике против него Белинский.
Так протягивались незримые нити преемственной связи между французскими революционерами XVIII столетия - якобинцами в русскими революционными демократами середины XIX века, прокладывавшими путь к великой будущности своего народа.
На противоположном конце Европы, па самом ее Западе, на Британских островах, в это же примерно время имя Робеспьера стало боевым паролем иных социальных сил, ведших напряженную классовую борьбу. Английский пролетариат, после долгого пути исканий и поражений поднявшийся до политической борьбы за решение социальных вопросов, но не дойдя еще до научного коммунизма, увидел в якобинизме воодушевляющие и поучительные для себя примеры. Речь идет, понятно, о славном периоде английского рабочего движения - чартизме.
В ту пору один из лучших представителей чартизма, вождь его левого крыла, позднее друг Маркса и Энгельса, Джордж Джулиан Гарни, поклонник французской революции, подписывавшийся, как и Марат, Ami du peuple ("Друг народа"), на митинге международной демократии в Лондоне в сентябре 1845 года говорил: "Я знаю, что все еще считается дурным тоном смотреть на Робеспьера иначе, как на чудовище, но я думаю, что недалек тот день, когда будут придерживаться совсем иного мнения о характере этого необыкновенного человека"*.
* (Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 595.)
Гарни не был единственным приверженцем Робеспьера и якобинцев в рядах английских чартистов. Еще более горячим и убежденным почитателем Неподкупного был Бронтер О'Брайен. В 30-е годы он стал серьезно изучать французскую революцию, и особенно деятельность и идейно-политические взгляды Максимилиана Робеспьера. Образ вождя якобинской диктатуры произвел на него огромное впечатление: в Робеспьере он увидел представителя истинной демократии. В годы нарастания чартистского движения О'Брайен работал над биографией Робеспьера. Первый том ее вышел в 1837 году - в год прилива первой волны чартизма*.
* (См. Ерофеев Н. А. Исторические взгляды чартиста О'Бранена. - "Из истории социально-политических идей". Сб. статей к 75-летию академика В. П. Волгина. М., 1955, стр. 452-465; Статья О'Брайепа в газете "National reformer", 11. III. 1837; Dolleans E. Le chartisme, t. I. Paris, 1912, p. 78; O'Brien J. B. The Life and Character of Maximilien Robespierre. London, 1837.)
Не представляется возможным, да и нет, пожалуй, необходимости прослеживать и подтверждать на примерах влияние исторического опыта Великой французской революции, ее освободительных идей, ее выдающихся деятелей на революционную и национально-освободительную борьбу самого широкого спектра социальных оттенков почти во всех странах Европы и Америки первой половины XIX века.
Придется ли говорить о самом близком по времени к французской революции литературно-политическом движении так называемых "венгерских якобинцев", создавших тайное революционное общество "Свобода и равноправие" во главе с Мартиновичем, или, позднее, об идейных истоках творчества величайшего поэта Венгрии Шандора Петефи*, или же о движении итальянского народа, выражавшего в 1801 году в Милане свое негодование возгласами "Да здравствует Робеспьер!"**, или о драматургии Георга Бюхиера***, или о юношеских увлечениях талантов "молодой Германии" ****, или о многих иных общественных движениях, революционных и прогрессивных,- всегда за ними был различим видимый то ближе то дальше силуэт великого якобинца XVIII века Максимилиана Робеспьера.
* (См. Петефи Шандор. Собр. соч., т. I. M., 1952, с. 194-195; т. IV, с. 183.)
** (Lettres et documents pour servir a l'histoire de Joachim Murat, t. I. Paris, 1908, p. 458.)
*** (Buchner G. Werke und Briefe. Wiesbaden, 1958.)
**** (См. произведения К. Гуцкова, Г. Лаубе и др.)
Ни феодально-дворянская, ни буржуазная реакция не оказалась в силах вычеркнуть из истории имя Робеспьера. Народ, творивший историю, двигавший ее вперед, в жестоких боях завершавший начатое французской революцией дело, не мог забыть ее героев.
Само собой понятно, что революционное движение на этом новом этапе не могло быть и не было простым повторением французской революции. Оно приобретало, в особенности в странах передового капиталистического развития, где быстро развивался пролетариат, новое содержание. Но революционная демократия 40-х годов XIX века, уже ощущавшая приближение нового революционного вала, действительно прокатившегося в 1848 году, очень остро чувствовала преемственную связь с французской революцией и открыто ее провозглашала. "...Все современное европейское социальное движение представляет собой лишь второй акт революции, лишь подготовку к развязке той драмы, которая началась в 1789 г. в Париже, а теперь охватила своим действием всю Европу..."* - писал в 1845 году Энгельс.
* (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 589.)
Естественно, что и главные герои первого действия этой драмы, и среди них, естественно, тот, кто играл едва ли не самую важную и трагедийную роль - Робеспьер, снова овладели умами и сердцами миллионов людей, ходом вещей вовлекаемых в новый акт революции.
И здесь мы обрываем это затянувшееся вступление к основной теме. Поневоле оно приобрело черты историографического введения. А это не входило в намерения автора, да и практически было бы неосуществимо. Ведь если прослеживать продолжавшиеся столкновения мнений по поводу Неподкупного в исторической литературе и общественной мысли за последние сто пятьдесят лет, пришлось бы в 2-3 раза увеличивать объем работы. Да и нужно ли это?
Задача вступления была иная. Я полагал, что надо с самого начала показать для более правильного понимания всего последующего, что казнь без суда, насильственная смерть, посмертное поругание Робеспьера вопреки стараниям его врагов - все это оказалось напрасным. И поверженный, убитый, оклеветанный Робеспьер продолжал жить в памяти народа.
И не забывая об этом, вернемся теперь к тому, с чего и надо было, вероятно, начинать.
II
Каждая великая историческая эпоха рождает великие дарования. Они появляются обычно во всех областях человеческой деятельности: в политике, общественной мысли, науке, литературе, искусстве.
Целое созвездие ярких талантов породило и восемнадцатое столетие - эпоха Великой французской революции и ее исторического подготовления. Правда, их значение для последующих поколений не было одинаковым; вклад, внесенный каждым из этих талантов в сокровищницу духовных ценностей человечества, мог быть определен лишь испытанием времени.
Иные из имен, так ослепительно блиставшие в годы революции и казавшиеся многим современникам звездами первой величины, не выдержали этой проверки. Сначала они поблекли, затем стали тускнеть, затем совсем погасли, и от них сохранился едва заметный в истории след.
Другие оставили более прочную память, но внимание и интерес к ним поддерживались лишь у ученых-специалистов - историков, философов, филологов, оставляя новые поколения людей равнодушными к их былой славе, былой судьбе.
И лишь совсем немногие - их имена наперечет,- преодолевая напор все уносящего потока времени, на каждом новом историческом повороте какими-то не познанными ранее чертами приковывая к себе внимание вступающей в жизнь новой людской поросли, навсегда запечатлелись в памяти человечества. К числу этих немногих принадлежит, как мы пытались только что доказать, и Максимилиан Робеспьер.
Максимилиан де Робеспьер родился 6 мая 1758 года в городе Аррасе в провинции Артуа на севере Франции. Его полное имя - Максимилиан-Мари-Изидор, но он почти никогда не подписывался всеми тремя своими именами, а ставил перед своей фамилией только первое - Максимилиан. Это имя он должен был всегда соединять со своей фамилией, чтобы его не смешивали с его младшим братом Огюстеном-Жозефом Робеспьером, ставшим позднее также политическим деятелем.
1758 год - год рождения будущего вождя якобинцев остался памятным в истории Франции. Это был один из самых бесславных годов в долголетнем царствовании Людовика XV, год глубоких внутренних и внешних потрясений для французского королевства. Поражения французской армии в Семилетней войне при Росбахе в 1757 году и при Кревельте в 1758 году нанесли тяжелый удар престижу монархии. Власть Людовика XV, претендовавшего на славу и величие своего предшественника - "короля-солнца", предстала в своем истинном виде: она раскрыла перед страной, перед всем миром свою слабость, бездарность, ничтожество. "В сущности нам не хватает правительства... у нас нет ни генералов, ни министров..." - писал один из видных правительственных чиновников, аббат де Берни, государственный секретарь департамента иностранных дел*.
* (Aubertin Ch. L'Esprit public du dix-huitieme sieclo, 2 ed. Paris, 1873, p. 340-341.)
Но это правительство, ничтожность которого признавали даже его высшие служащие, не хотело добровольно сойти со сцены, напротив, оно усиливало репрессии против всех "вольнодумцев". В сентябре 1758 года в Париже, на Гревской площади, был публично повешен один из служащих палаты прошений за непочтительные слова о короле и его министрах. Однако суровые кары не могли сломить общественное недовольство. Осенью 1758 года в Театре французской комедии, в Лувре и других посещаемых местах Парижа расклеивались и разбрасывались листовки с мятежными призывами.
Правительство, а затем парижский архиепископ запретили и осудили в 1758 году только что вышедшую книгу Гельвеция "Об уме", но после запрещения книга выдающегося философа-материалиста стала одним из самых популярных литературных произведений. "Мы приходим к последнему периоду упадка",- писал 6 июня
1758 года уже упоминавшийся аббат де Берни, и то ли с его легкой руки, то ли из других уст, но это слово "упадок" - decadence стало самым распространенным обозначением обреченного на гибель режима.
С чего это началось? С каких пор обозначилось это скольжение по наклонной вниз? Это уже было трудно установить. Свыше сорока лет правил Францией король Людовик XV, но, чем дальше шло время, тем явственнее становилась не только слабость и бездарность ничтожного монарха, но и гнилостность всего феодально-абсолютистского режима. Версальский дворец блистал таким же великолепием, как и в дни "короля-солнца" Людовика XIV, но выставленная напоказ роскошь и непрерывные празднества и развлечения, подсказанные изобретательной фантазией всесильной госпожи де Помпадур, уже не создавали впечатления могущества и благоденствия королевства.
В Версальском дворце, в особняках родовитой аристократии, стремившейся следовать за двором, торопливо, грубо и жадно прожигали жизнь. "После нас - хоть потоп!" - эти циничные слова, приписываемые Людовику XV, стали как бы девизом господствующего класса феодалов середины XVIII столетия. Они жили сегодняшним днем, не задумываясь над будущим. Для удовлетворения алчных и необузданных потребностей королевского двора, придворной камарильи, казны, огромного налогового аппарата, армии, церкви, родовой аристократии, поместного дворянства оставались одни и те же источники дохода: возрастающая эксплуатация крестьян и прогрессирующее налоговое обложение буржуазии.
Крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения королевства, было обездоленным, бесправным, нищим. Но это забитое, изнуренное непосильным трудом крестьянство все же отвечало на чудовищную эксплуатацию возрастающим сопротивлением. Крестьянские волнения, доходящие нередко до открытых вооруженных восстаний, усиливались на протяжении XVIII столетия. К середине века, и особенно во второй его половине, подспудное сопротивление крестьянства беспощадной феодальной эксплуатации все чаще переходило в открытое возмущение.
Расцвет просветительской мысли во Франции, успехи "партии философов", завоевывавшей все новых приверженцев в рядах третьего сословия, даже среди либерального дворянства, были внешним отражением возрастающей борьбы народных масс и сильной молодой буржуазии против отживающего свой век феодально-абсолютистского строя.
Эта борьба нового со старым шла уже давно. Время феодализма кончалось. В двери стучались новая эпоха, новые общественные отношения, новый общественный строй. Их истинное содержание - а таковым, по законам общественного развития, могло быть только установление господства буржуазии - еще оставалось даже для самых сильных умов неясным и неразгаданным. Новая эпоха представлялась им - понятно, со множеством разных оттенков - как время торжества разума и свободы, как лучший, более справедливый и гармоничный общественный порядок, построенный в соответствии с "естественными правами человека".
Каким будет будущее? Этого никто не знал достоверно. Но уже многие чувствовали приближение больших перемен, крутую ломку социально-политического уклада всей жизни, и будущее, которое должно было наступить ва этой ломкой, представлялось им прекрасным.
Но волнующие надежды, будоражившие умы молодых людей, вступавших в жизнь в середине XVIII века и искавших ответа в сочинениях Вольтера, Монтескье, Ламетри, Гельвеция, Руссо, в статьях "Энциклопедии" Дидро и д'Аламбера, - эти "мятежные настроения", этот "дух вольнодумия" не только ни в малой мере не разделялись правительством, но, напротив, преследовались как опасная "крамола" и "ересь"*.
* (См. подробнее об идейных движениях этого времени: Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958; Bertaut J. La vie litteraire en France au XVIII siecle. Pads, 1954; Mornet D. Les origines intcllectuelles de la Revolution francaise, 4 ed. Paris, 1947; Sagnac Ph. La formation de la societe francaise moderne, t. 2. Paris, 1947.)
Разрыв между третьим сословием, составлявшим девять десятых населения королевства, и существовавшей властью - феодально-абсолютистским режимом достиг крайней степени. Это были два мира, разных и враждебных друг другу, но вынужденных уживаться в рамках одного государственного организма. Старый, феодально-абсолютистский мир господствовал, угнетал и повелевал. А народ и шедшая с ним вместе, точнее возглавлявшая его, буржуазия стремились сломить этот мертвящий покой реакционного рутинного строя, сорвать его оковы. С середины века эти непреодолимые противоречия стали все чаще прорываться наружу.
В 1748-1749 годах в разных провинциях французского королевства, да и в самом Париже вспыхивали народные волнения. Правительство подавило их жестокими репрессиями, однако народное недовольство, загнанное в подполье, но не искорененное, продолжало тлеть.
Итак, тысячелетняя французская монархия вступила в полосу упадка; это было наконец осознано и высказано вслух. Вольнодумные настроения, дух "критицизма", стремления к переменам день от дня все более усиливались. Но этот "мятежный дух", охвативший страну с такой силой, что заставлял даже Гримма опасаться революции*, этот ветер вольности, круживший головы молодым людям в Париже, слабел, стихал, с трудом проникая сквозь окна добротного дома именитого горожанина города Арраса адвоката королевского суда Франсуа Робеспьера.
* (Grimm Fr. M. Correspondence litteraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot depuis 1753.., t. II. Paris, 1829, p. 81.)
И отец, и дед, и прадед, и все предки малолетнего Максимилиана по отцовской линии принадлежали к судейскому сословию. Это была зажиточная патрицианская семья, пользовавшаяся известностью и почетом в родном городе, семья с давними прочными традициями. Казалось, в этом доме труднее всего было поддаться соблазнам или сомнениям, порождаемым веяниями нового времени.
До семилетнего возраста детство Максимилиана было безоблачным. Но затем все изменилось. Умерла мать, а через три года глава семьи Франсуа Робеспьер по причинам, недостаточно выясненным, покинул Аррас, а позже и Францию. Он переехал в Германию, жил некоторое время в Мангейме, потом еще где-то и умер в Мюнхене в 1777 году*.
* ("Annales historiques de la Revolution Francaise", 1958, N 2.)
Четверо детей остались сиротами. Заботу о них взял на себя дед. Старший из них, Максимилиан, острее других ощутил эту семейную катастрофу, все изменившую в детском мире. Достаток сменился бедностью, материнская ласка - одиночеством. Этот резкий поворот судьбы не мог не сказаться на характере Максимилиана; он наложил отпечаток на всю его последующую жизнь*.
* (О детстве и юности Максимилиана см. Robespierre Ch. Memoires sur ses deux freres. Paris, 1834 (требует критического отношения); Paris J.-A. La jeunesse de Robespierre. Arras, 1870 (далее - Oeuvres completes))
Дед определил Максимилиана в местный коллеж, а затем выхлопотал для него стипендию в коллеже Людовика Великого в Париже, готовившем к поступлению на юридический факультет Сорбонны. Осенью 1769 года, одиннадцати лет, Максимилиан оставил город, в котором вырос, и конный экипаж повез его долгими дорогами в неведомый Париж.
В столице королевства Максимилиан пробыл двенадцать лет - до 1781 года. Он учился сначала в коллеже "Людовика Великого, а затем па юридическом факультете Сорбонны, который закончил в 1780 году и получил звание бакалавра прав. После года практики в Париже ему было присвоено звание лиценциата прав.
В коллеже, а затем и в Сорбонне он посвящал свое время учению. Он был всецело поглощен чтением. Позднейшие выступления Робеспьера показывают, что он знал античных авторов, как и историю Греции и Рима, в совершенстве. Как ни замкнута, как ни уединенна была жизнь воспитанников коллежа Людовика Великого, зорко охраняемых бдительными церковнослужителями, свежий ветер предгрозового времени проникал и за его плотные стены. Воспитанники коллежа Людовика Великого и студенты Парижского университета были самыми ревностными читателями и почитателями запретных произведений властителей дум молодежи - великих писателей Просвещения. Юный Максимилиан Робеспьер поглощал эти произведения с особой жадностью.
По единодушному свидетельству ровесников и преподавателей, аррасский стипендиат вел в стенах парижских учебных заведений замкнутый образ жизни. Он был беден. Стипендия, установленная для него в Аррасе, составляла 450 ливров в год; для столичной жизни это было ничтожно мало. Он был бедно одет, ходил в стоптанных башмаках. Он был молчалив, не искал товарищей, предпочитал в уединении читать книгу за книгой.
Из выступлений Робеспьера поры его зрелости можно с полной достоверностью установить, что он был знаком со всеми важнейшими произведениями общественно-политической мысли своего времени. Он превосходно знал литературу Просвещения. Как и Марат, он высоко ценил Монтескье, но его любимым автором - автором, оказавшим на него громадное влияние, был Жан-Жак Руссо.
Руссо был для Робеспьера не только любимым писателем, который какими-то сторонами своего творчества отвечал его внутреннему, душевному складу. Больше того, он стал учителем Робеспьера. Двадцати лет Робеспьер направился в Эрменонвиль, где, уединившись, доживал свои последние дни автор "Новой Элоизы" и "Общественного договора". Там он видел знаменитого писателя, о чем сам позднее поведал*. В исторической литературе по поводу этой встречи было создано много вымыслов**, но, видимо, следует согласиться с Амелем, что все приводимые подробности нельзя считать достоверными***. Нельзя также переоценивать значение этой встречи. Длительное или, вернее сказать, постоянное увлечение Робеспьера Руссо не может быть объяснено влиянием этой недолгой встречи.
* (Oeuvres completes de Robespierre, t. I (Robespierre a Arras), Paris, 1912, p. 211-212.)
** (Начало им положили апокрифические мемуары: Мётоагез authentiques de Maximilien de Robespierre, t. 1-2. Paris, 1830.)
*** (Hamel E. Histoire de Robespierre.., t. I. Paris, 1865, p. 22.)
Идейное формирование Робеспьера шло, конечно, не столько под воздействием сухих дисциплин, преподносимых с кафедры коллежа, а затем Сорбонны, и даже не столько под воздействием поглощаемой им запретной литературы, осужденных властью и церковью авторов, сколько под непосредственным влиянием всей бурной предгрозовой эпохи.
Робеспьер рос, созревал, формировался в годы кризиса абсолютистского режима и приближения революционной грозы. И он, как и его сверстники, пережил полосу почти не скрываемого осуждения Людовика XV и надежд, связанных с воцарением Людовика XVI и реформами Тюрго. И он испытал крушение этих кратковременных иллюзий и воодушевление, охватившее молодежь от известий о мужественной борьбе "парней свободы", как называли в то время американских колонистов, поднявших освободительную войну против британской короны. Одаренный от природы, Максимилиан Робеспьер жадно вслушивался в шум времени и различал в нем, быть может явственнее, чем многие его сверстники, ведущие ноты, возвещавшие приближение грозы.
Жан-Жак Руссо смог оказать такое значительное и устойчивое влияние на юного студента Сорбонны, затем на бакалавра прав, на адвоката и политического деятеля, думается, потому прежде всего, что в его произведениях, при всей их противоречивости, Робеспьер, как и неведомый ему в ту пору Марат или позже Сен-Жюст, почувствовал сильнее всего мятежный дух предреволюционного времени и нашел наиболее яркое выражение смутных, не осознанных до конца чаяний народных масс. Максимилиан Робеспьер уже на школьной, а затем университетской скамье становится руссоистом. Он им останется и позже. Но это не следует понимать как нечто застывшее и неизменное. Пройдет время, и ученик во многом пойдет дальше своего учителя.
В конце 1781 года двадцатитрехлетний лиценциат прав Максимилиан де Робеспьер (он продолжал так, видимо из тщеславия, подписываться еще некоторые годы), полностью и с успехом закончив в Париже курс юридических наук, вернулся в свой родной город Аррас. Как и его отец и дед и как его прадед и прапрадед, он остался верен судейской профессии. Он занял место адвоката в королевском суде Арраса. Могло казаться, что все повторяется сызнова: возобновление еще одного традиционного в семье Робеспьеров круга.
Молодой адвокат поселился со своей сестрой Шарлоттой в добротном доме на улице Сомон. От умерших деда и теток ему досталась какая-то доля наследства. Он стал хорошо, даже тщательно одеваться. Его сдержанность, степенные манеры, строгая, правильная речь произвели на сограждан превосходное впечатление. Господии Либорел, старейший и самый уважаемый адвокат Арраса, оказывал покровительство своему младшему коллеге. Клиенты охотно обращались к этому молодому, но серьезному адвокату - достойному преемнику дела своих предков. Можно было ожидать, что вольнодумные увлечения парижской юности будут вскоре забыты (кому не свойственно увлекаться в семнадцать лет?), томики Руссо на книжной полке покроются пылью, молодой адвокат обретет солидность, женится на одной из самых богатых невест города и станет таким же добропорядочным и почетным аррасскнм горожанином, как его отец, и его дед, и его прадед.
Но все оказалось не так.
Правда, молодой адвокат действительно быстро добился успеха и известности в своей провинции. Он легко и без заметных усилий опередил своих несколько старомодных коллег. Его выступления в суде обратили на себя внимание, и он вскоре стал одним из самых уважаемых граждан Арраса. Но в профессию своих отцов молодой Робеспьер внес нечто новое. Его не прельщали ни крупные заработки, ни выгодные дела, расширявшие связи с богатыми и влиятельными людьми края. Он разошелся со своим старшим коллегой, покровительствовавшим ему Либорелем, и безбоязненно шел на конфликты с сильными людьми провинции Артуа, когда этого требовали его убеждения. Свою профессию адвоката он стремился па практике осуществить в соответствии с ее высшим назначением - быть защитником слабых и невинных. Он взялся за трудное дело - помочь крестьянам, ведшим долгую тяжбу с епископом. Он не побоялся также вступить в борьбу с местными церковными властями ради реабилитации невинно оклеветанного ремесленника и сумел добиться в этом трудном процессе победы.
Наибольшую известность принес ему громкий и имевший политический характер процесс некоего Виссери из города Сент-Омера. Виссери, увлекавшийся физикой, установил над своим домом громоотвод, изобретенный Франклином. Этого было достаточно, чтобы местные власти обвинили его в преступных намерениях. Громоотвод было постановлено снести как "опасный для общественного порядка".
Виссери обратился за помощью к Робеспьеру. Молодой адвокат охотно взялся за это дело. Здесь сталкивались два противоположных мира - мракобесия и просвещения, вчерашний и завтрашний день, и он был рад сразиться с противниками "партии философов". Процесс этот привлек к себе большое общественное внимание. Робеспьер выступил с двумя яркими речами в Аррасском суде, изданными затем отдельной брошюрой в Париже*. Дело было выиграно, и оно сразу принесло Робеспьеру популярность во всей провинции Артуа.
* (Robespierre M. Plaidoyers pour le sieur de Vissery de Bois - Vale. - Oeuvres completes, t. II, p. 136-170, 171-202.)
Но Робеспьер был молод, и, как бы ревностно он ни относился к своему долгу защитника угнетенных и невинных, его обязанности адвоката не поглощали ни всей его энергии, ни всех его стремлений. Он пишет на досуге стихи - гладкие и изящные строфы о красоте природы, об аромате роз - поэтическое чистописание, не отмеченное ни особым талантом, ни яркостью чувств или мысли. Это дань моде, и он сам не придает значения своим поэтическим опытам. Он пишет философско-литературные трактаты на темы морали: о наказаниях в семье или о популярном в то время поэте Грессе и его поэме "Вер-Вер"*. Его литературные опыты имеют успех. Сочинение о морали, посланное им на конкурс, объявленный Королевским обществом науки и искусства в Меце, было удостоено медали и награды, и польщенный автор поспешил издать свое сочинение отдельной брошюрой в Париже.
* (Oeuvres completes, t. I.)
В ту пору в некоторых провинциальных городах Франции существовали местные академии, являвшиеся средоточием выдающихся или мнящих себя выдающимися деятелей края. Эти академии были своеобразными центрами если не научной, то во всяком случае умственной жизни провинции. Уже около полувека существовала академия и в Аррасе. В восьмидесятых годах она переживала полосу расцвета, и среди ее членов было несколько лиц, придерживавшихся передовых для того времени взглядов: Дюбуа де Фоссе, ведший оживленную переписку с молодым Бабефом, Лазар Карно, чье имя позднее крупными буквами войдет в историю Франции, адвокат Бюиссар, близкий друг Максимилиана Робеспьера, и др.
Осенью 1783 года, видимо по инициативе Бюиссара, Робеспьер был избран членом академии. Тремя годами позже, в 1786 году, он был избран ее президентом. Это избрание свидетельствовало не только об авторитете, который он сумел завоевать среди своих собратьев по академии, оно отражало и рост популярности Робеспьера в передовых кругах провинциального города.
Но молодой адвокат не ограничивается только стенами официальных или полуофициальных учреждений. Он часто бывает в доме своего друга Бюиссара и в доме госпожи Маршан, где собирается "бомонд" Арраса. Он не чуждается общества молодых красивых женщин, и сплетники (а кто в маленьком городе не сплетник?) рассказывают о его увлечении мадемуазель Деэ, подругой его сестры, а позже вполголоса передают друг другу, что молодой адвокат уже почти жених своей кузины Анаис Дезортис.
Что здесь правда, что вымысел - судить трудно, да в конце концов это и не так важно. В переписке Робеспьера ранних лет сохранился ряд писем к молодой девушке, написанных с той же тщательностью литературной шлифовки, которая была так свойственна восемнадцатому веку, веку эпистолярного искусства, но в которых не трудно было прочесть и нечто большее.
Робеспьер был деятельным участником местного литературно-артистического общества "Розати" ("Друзей роз"). Он вступил в это общество в 1787 году. На торжественно-шутливой церемонии приема его приветствовал бокалом вина и пропетыми в его честь стихами молодой артиллерийский офицер, слывший элегантным кавалером и самым искусным стихотворцем в этом собрании молодых талантов Арраса. Обычай требовал, чтобы вступающий новый член "Друзей роз" тут же, немедля, ответил стихами. Молодой президент аррасской академии оказался на высоте. На тот же мотив, слегка фальшивя, Робеспьер пропел симпровизированное им тут же шуточное стихотворение.
С этим молодым офицером, с таким беспечным и искренним весельем приветствовавшим нового собрата в обществе "Друзей роз", Робеспьеру придется еще не раз встречаться. Это был Лазар Карно - будущий знаменитый организатор обороны Республики и прославленный математик. Пройдут годы, всего лишь несколько лет, и недавние друзья, дружеским звоном бокалов беззаботно праздновавшие чью-либо удачную поэтическую выдумку или острое словцо, снова встретятся - на этот раз строгими, скупыми на слова - на скрытых от посторонних глаз заседаниях Комитета общественного спасения в критические дни Республики, а затем навсегда разойдутся, разделенные непримиримой враждой. Но это будет потом.
III
Гроза, давно ожидаемая, всеми предвиденная и все-таки неожиданная, надвинулась в 1788-1789 годах. В ту пору, когда в провинциальном, далеком от столицы и ее треволнений Аррасе жизнь текла, казалось, особенно тихо, в Париже, а вслед за ним и во всей стране политическая атмосфера уже накалилась до крайности. В стране складывалась революционная ситуация.
Крестьянские мятежи во многих провинциях королевства, выступления в городах доведенного нуждой до отчаяния плебейства, громившего продовольственные лавки, склады, дома богачей, общественное возбуждение в Париже, таинственные сборища в Пале-Рояле, антиправительственные листовки в самых неожиданных местах. Дело дошло до того, что в Итальянской опере к бархату королевской ложи кем-то был приколот лист бумаги, на котором крупными буквами было выведено: "Трепещите, тираны, вашему царству наступает конец!"*
* (Roquain F. L'esprit revolutionnaire avant la Revolution. Paris, 1878, chap. XII.)
Это ощущение приближающегося конца дошло наконец и до тихого Арраса. И здесь, в провинции Артуа, как и во всем королевстве, все пришло в движение. Веселые шутки, беспечные развлечения в кругу молодых "Друзей роз", сентиментальные стихи - все сразу отброшено и перечеркнуто. Робеспьер с головой уходит в политическую борьбу.
В начале августа 1788 года было официально объявлено о предстоящем созыве Генеральных штатов. Уже двести лет не собирались Генеральные штаты, и это вынужденное необходимостью решение короля производит громадное впечатление в стране.
Молодой адвокат включается в избирательную борьбу. Он быстро пишет и столь же быстро издает брошюру о необходимости коренной реформы штатов Артуа*. Это сочинение обращено к жителям провинции Артуа и на первый взгляд разбирает вопросы узкоместного характера, не выходящие за границы провинции. Но это первое впечатление обманчиво. Хотя предметом сочинения действительно являются вопросы переустройства провинции Артуа, автор трактует их столь широко, что они теряют свое локальное значение. В этом произведении Робеспьер резко обличает произвол и беззаконие действий губернатора и правительственных властей, критикует налоговую систему, направленную своим острием против третьего сословия. Автор рисует картину полного бесправия и жестокой нужды крестьянства, доведенного до крайней нищеты. Робеспьер говорит о бедствиях крестьян Артуа. Но разве нарисованная им картина страданий народа не отражает в такой же мере и положение в Шампани, Турепи и других частях королевства? Резкая критика существующих порядков в Артуа перерастает в критику и осуждение всего существующего во Франции режима.
* (A la nation artesienne sur la necessite de reformer les Etata d'Artois. Arras, 1789.)
Брошюра имела огромный успех. Она создала ее автору немало врагов из числа правителей провинции и задетых его критикой. Но еще больше она принесла ему новых друзей. Через короткое время брошюра вышла вторым изданием.
Теперь молодого адвоката хорошо знают и в Аррасе, и в провинции Артуа. Передовые люди Арраса видят в нем многообещающего защитника интересов третьего сословия. Его избирают сначала одним из двадцати четырех выборщиков от третьего сословия города Арраса, а затем, в апреле 1789 года, одним из двенадцати депутатов в Генеральные штаты.
Популярность Робеспьера в родном городе растет. Не удивительно, что ему поручают составление сводного наказа от избирателей Аррасского округа. С присущей ему энергией он берется за почетное и ответственное дело. Оно дает ему возможность, кстати сказать, систематизировать и свою собственную программу политических требований.
Наказ аррасских избирателей, составленный Робеспьером, не является каким-либо исключительным документом среди других наказов того времени. Он не поражает ни крайним радикализмом требований, ни формой изложения. Но зато в этом документе последовательно и логично изложены главные демократические требования того времени: уничтожение сословных привилегий, обеспечение свободы личности, свободы печати, свободы совести, справедливое распределение налогов, ограничение прав исполнительной власти и т. д.
Конечно, этот документ не может рассматриваться как политическое кредо Робеспьера накануне революции. Как составитель и редактор сводного наказа, Робеспьер был связан тем материалом, который он обобщал и систематизировал. Но все же этот документ, конечно, соответствовал и собственным взглядам Робеспьера и в значительной мере их отражал.
Как это явствует и из брошюры "К народу Артуа", и из других выступлений Робеспьера 1788-1789 годов, он еще сохранял в то время много иллюзий. Он полон доверия и благожелательности к королю Людовику XVI, к его добрым намерениям, к его желанию устранить существующие несправедливости. Он полагает, что от воли короля зависит "создать на земле счастливый народ" и соединить навсегда монарха со свободой и счастьем народов. С таким же доверием он относится и к Неккеру, вновь назначенному в 1788 году государственным контролером финансов. Он видит в нем великого реформатора и надеется, что женевский банкир способен спасти страну.
Эти наивные иллюзии не могут быть рассматриваемы как доказательство политической близорукости или отсталости политических взглядов Робеспьера накануне революции. Эти иллюзии были присущи в то время всем представителям третьего сословия. От них не был свободен даже такой зрелый и проницательный политический деятель, как Марат, хотя, конечно, в целом его позиции в то время были левее позиций Робеспьера.
Робеспьер на пороге революции был уже искренним и убежденным демократом. Он сражается против абсолютистского режима и его прислужников, он страстно защищает интересы народа, он осуждает не только сословно-феодальный иерархический строй, но гневно обличает и своекорыстие богатства. Не случайно в эти переломные Дни своей жизни он пишет восторженное "Посвящение "Жан-Жаку Руссо", в котором славит своего учителя.
Но тщетно было бы искать в выступлениях Робеспьера Дореволюционного времени обращений к народу с призывом добиться с оружием в руках осуществления своих прав, Робеспьер аррасского периода не поднимается еще до понимания необходимости вооруженной борьбы народа за свои права, которое проявил Марат в "Цепях рабства", написанных еще в начале 70-х годов.
При всей искренности демократических чувств и убеждений Робеспьера, при действенности его натуры и стремлении претворить слово в дело (это была одна из самых сильных его черт как политического деятеля) в аррасский период он еще не стал демократом-революционером. По-видимому, правильнее будет сказать, что до революции он был искренним и убежденным демократом, старавшимся претворить свои убеждения в действие, но еще остававшимся во власти конституционно-монархических иллюзий.
IV
Максимилиан Робеспьер, депутат третьего сословия Ар-раса, адвокат, тридцати лет, в апреле 1789 года приехал в Версаль и поселился в маленьком отеле на улице Святой Елизаветы.
У него были все основания смотреть в будущее с надеждой. Миновало лишь восемь лет с тех пор, как бедным, никому не ведомым лиценциатом прав он оставил Париж. И вот он снова вернулся в резиденцию короля и Генеральных штатов полноправным представителем французского народа, призванным вместе с другими коллегами найти спасительные для судеб Франции решения.
Но, очутившись в огромном здании дворца "малых забав" в Версале, где заседали Генеральные штаты, он оказался лишь одним из шестисот депутатов третьего сословия. Его успехи в родном городе остались незамеченными в стране. Ни в Версале, ни в Париже никто не знал скромного адвоката из Арраса. Среди депутатов Генеральных штатов было немало громких имен, известных всей Франции, всей Европе. Граф Оноре Мирабо, "герой Старого и Нового света" маркиз Лафайет, прославившийся своей знаменитой брошюрой "Что такое третье сословие?" аббат Сиейес, храбрый участник войны за свободу американской республики Шарль Ламет, ученый-астроном Байи... Их появление на трибуне встречали бурными продолжительными аплодисментами. Их известность заранее предопределяла успех выступлений.
В этом ярком созвездии знаменитостей и талантов молодой депутат от Арраса остался незамеченным. А между тем Робеспьер с первых дней работы Генеральных штатов принял деятельное участие в развернувшейся борьбе. Во время острых прений между сословиями он внес на заседании коммун* политически мудрое и оправдавшее себя предложение обратиться к духовенству с приглашением присоединиться к третьему сословию. Он прозорливо предполагал, что низшее духовенство - приходские священники "отделятся от той части своего сословия, которая поддерживает раскол, и присоединятся к Коммунам"**.
* (Коммунами, или общинами, стали называть заседания депутатов третьего сословия, не желавших употреблять одиозный термин "третье сословие".)
** (Переписка Робеспьера. Л., 1929, стр. 48.)
Вместе с тремя другими депутатами от Артуа Робеспьер был инициатором предложения принять клятву - не расходиться, пока не будет выработана конституция, - на знаменитом собрании в Зале для игры в мяч 23 июня 1789 года. В исторической литературе высказывалось мнение, что ему же принадлежала идея названия Национального собрания, которое, как известно, было принято на заседании коммун 17 июня*.
* (Это мнение Ж. Мишона (Переписка Робеспьера, стр. 46).)
Что побуждало депутата Арраса столь деятельно вмешиваться в работу Генеральных штатов? Честолюбие? Желание выдвинуться? Обратить на себя внимание?
Вряд ли. В единственном полноценном источнике, которым мы располагаем, об этих первых неделях пребывания Робеспьера в Версале - его письмах к своему другу Бюиссару нельзя найти ничего, что свидетельствовало бы о честолюбивых или даже просто личных мотивах в действиях Робеспьера. Он вообще почти ничего не пишет о себе. Достаточно сопоставить эти письма с письмами Мирабо или Камилла Демулена того же времени, с их самоупоением, с их гиперболизацией собственной роли в событиях, чтобы сразу же почувствовать, как далеки чувства, мысли, психологическая основа поведения Робеспьера от мотивов, вдохновлявших знаменитого трибуна и "генерального прокурора фонаря".
Робеспьер столь энергично ввязался в политическую борьбу потому, что его к этому подталкивали его убеждения, чувство ответственности перед народом, доверившим ему представлять его интересы, действенность его натуры, стремившейся всегда претворить принципы в практику, слово в дело. Даже впервые недели работы Национального собрания - в мае - июне 1789 года - Робеспьер сделал немало. Во всяком случае он был активнее, Деятельнее многих других, даже большинства депутатов Национального собрания.
И все-таки депутат от Арраса по-прежнему продолжает оставаться незамеченным. К нему не проявляют ни интереса, ни внимания. В газетных отчетах его выступления передаются весьма сжато и к тому же неточно. Журналисты и газетные хроникеры не дают себе труда запомнить его имя. В Национальном собрании даже его собратья по третьему сословию относятся равнодушно-пренебрежительно к этому настойчивому депутату из Арраса, который кажется им провинциальным и старомодным. Во время его выступлений в зале не утихал шум, а его голоса не хватало, чтобы перекричать и заставить смолкнуть бушевавший зал. Но ни равнодушие, ни враждебное пренебрежение не смогли сбить Робеспьера с избранной им дороги. Он шел своим путем, убежденный в его правильности, он делал и говорил то, что считал нужным для блага народа.
Его письма мая - июля 1789 года к Бюиссару, не рассчитанные на постороннего слушателя, поражают независимостью и зрелостью суждений, удивительной прозорливостью. В мае 1789 года, когда слава Мирабо была в зените, Робеспьер пишет, что "граф Мирабо играет ничтожную роль, его дурная нравственность лишила его всякого к нему доверия". Позже, в июле, он смягчает свои непримиримые суждения о Мирабо, но очень скоро снова вернется к ним. Он отрицательно отзывается о Мунье, Тарже, Малуэ - депутатах, пользовавшихся тогда большим авторитетом среди либерально-буржуазного большинства Собрания. Он крайне сдержанно пишет о Лафайете*, который в то время был кумиром большинства депутатов и толпы.
* (Переписка Робеспьера, с. 50, 51.)
Для молодого депутата от Арраса чужие мнения, по-видимому, не имеют никакой цены. Он ими просто пренебрегает и руководствуется в своих действиях, в своих выступлениях только собственными суждениями.
Эта непоколебимая убежденность в истинности, т. е. соответствии интересам народа, отстаиваемой им политической линии и придавала Робеспьеру такую твердость, такую настойчивость в его выступлениях. М. Булуазо подсчитал: в 1789 году газеты отметили шестьдесят девять выступлений Робеспьера в Учредительном собрании, в 1790 году - сто двадцать пять, в 1791 году - триста двадцать восемь выступлений за девять месяцев его деятельности*, Эти сухие цифры поразительны. За ними скрываются непрерывно усиливающийся нажим, громадное напряжение воли, преодолевающей сопротивление.
* (Bouloiseau Marc. Robespierre. Paris, 1961, p. 18.)
Проницательные люди сумели раньше других оценить силу этого неизвестного ранее в Париже депутата от Арраса. Умный, ловкий, обладавший тонким чутьем Барер де Вьезак, будущий фельян, будущий жирондист, будущий якобинец и, наконец, термидорианец, Барер был, пожалуй, одним из первых, кто разгадал и на страницах своей газеты "Point du jour" отметил появление нового таланта. Известно и прозорливое суждение Мирабо: "Он пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит".
Прошло еще немного времени, и этот всегда сдержанный, неторопливый, невозмутимо уверенный в себе депутат от Арраса, которого нельзя было ни сбить с толку, ни смутить, ни запугать, заставил это многоголосое, кипящее страстями собрание выслушивать его речи. Он не привлек его на свою сторону, он не завоевал и его симпатий; оно в своем большинстве оставалось к нему враждебным. Иначе и быть не могло, ибо здесь было расхождение политических интересов. Но постепенно, шаг за шагом, от выступления к выступлению он смирял, укрощал этот враждебный ему зал. Он приучил этих "представителей французской нации", из которых почти каждый претендовал на первенствующую роль, считаться с ним как с силой и с настороженной внимательностью прислушиваться к его речам.
Конечно, и сам Робеспьер на протяжении этих трудных месяцев тоже менялся; он учился у жизни, учился у народа, учился у революции. Громадное, можно даже сказать, решающее влияние на него оказало народное восстание 14 июля, положившее начало Великой французской революции. В письме Бюиссару от 23 июля 1789 года сдержанный Робеспьер пишет о взятии Бастилии с восторженностью. В отличие от многих своих современников он сразу же правильно оценил события 13-14 июля как начавшуюся великую революцию.
"Настоящая революция, мой дорогой друг, на протяжении короткого времени сделала нас свидетелями величайших событий, какие когда-либо знала история человечества..." - пишет он Бюиссару. Главным в этой революции он считает решающую роль народа, необычайную энергию, которую тот проявляет.
"- Трехсоттысячная армия патриотов, состоящая из граждан всех классов, к которым присоединились Французская гвардия, швейцарцы и другие солдаты, казалось, выросла из-под земли каким-то чудом. Вторым чудом была быстрота, с какой парижский народ взял Бастилию... Ужас, который внушает эта национальная армия (т. е. вооруженный народ.- А. М.), готовая двинуться на Версаль, решил судьбу Революции"*.
* (Переписка Робеспьера, с. 51-53.)
Это признание решающей роли народа в революции не было случайно обмолвленными словами. Тремя днями раньше, в речи в Национальном собрании 20 июля, Робеспьер, с негодованием отвергая внесенное одним из реакционных депутатов предложение применять силу для подавления народных движений, указал на спасительную роль народного восстания 14 июля. "Не забывайте, господа,- говорил Робеспьер,- что только благодаря этому мятежу нация обрела свою свободу"*.
* (Oeuvres completes, t. VI, p. 39-70.)
Робеспьер в это время еще сохраняет иллюзии в отношении короля и монархии; он от них не так скоро освободится. Но именно с 14 июля и под прямым влиянием этого решающего дня Робеспьер становится революционером. В народе, а не в парламентариях - депутатах Собрания он увидел главную силу революции. Он уверовал в его неисчерпаемые силы, в его энергию, в его дееспособность. Если до сих пор, до 14 июля, общественный прогресс, движение вперед ему мыслились только в легальных формах, то после взятия Бастилии он сразу же понял, что основная сила революции - во вне легальных, во внепарламентских действиях народа, в революционной активности масс.
Юрист, вооруженный знанием всех тонкостей законности, он сразу же и безоговорочно принимает революционное насилие как справедливое и необходимое средство борьбы народа. В том же, уже цитированном, письме Бюиссару он с явным одобрением пишет о казни парижским народом (без суда, конечно!) коменданта Бастилии и купеческого старшины за их враждебные народу действия. Он коротко и деловито информирует: "Г-н Фулон был вчера повешен по приговору народа"*.
* (Переписка Робеспьера, с. 57.)
Позднее он одобряет и поддерживает народное выступление 5-6 октября - поход на Версаль, крестьянские выступления в деревнях, сожжение усадеб ненавистных помещиков и т. п.* "Если в Бретани гнев народа сжег несколько замков, то они принадлежали должностным лицам, которые отказывали народу в справедливости, не подчинялись вашим законам и продолжают восставать против конституции. Пусть же эти факты не внушают никакого страха отцам народа и отчизны!" - говорил Робеспьер в Учредительном собрании**. И он заключал: "Не будем следовать ропоту тех, кто предпочитает спокойное рабство свободе, обретенной ценою некоторых жертв, и кто непрестанно указывает нам на пламя нескольких горящих замков. Что же, неужели, подобно спутникам Одиссея, вы хотите вернуться в пещеру Циклопа ради шлема и пояса, которые вы там оставили?" *** Эта мысль: насилие, жертвы оправданны, если они необходимы революции, необходимы для утверждения свободы,- неоднократно развивается Робеспьером во многих его выступлениях.
* (См. выступления Робеспьера в Национальном собрании 21 октября 1789 г., 9 февраля 1790 г., 22 февраля 1790 г. и др.)
** (Oeuvres completes, t. VI, p. 238.)
*** (Ibid., p. 240.)
Из конституционного демократа Робеспьер после взятия Бастилии превращается в революционного демократа, демократа-революционера. Конечно, это не следует понимать упрощенно. Робеспьер не становится противником конституции или конституционного режима. Как и все революционные демократы того времени, он считает необходимым выработку конституции. Вопрос заключается лишь в том, какой будет эта конституция. Народной? Или антинародной?
Ему полностью чуждо то фетишизирование конституции, как таковой, ради нее самой, которое было свойственно буржуазно-либеральным депутатам Национального собрания. "... Пусть нам не говорят о конституции. Это слово слишком долго нас усыпляло, слишком долго держало нас погруженными в летаргию. Эта конституция будет лишь бесполезной книгой, и что толку в создании такой книги, если у нас похитят нашу свободу в колыбели"*.
* (Ibid., p. 126.)
Вот замечательный образец революционного мышления. Действительную свободу Робеспьер ставит выше формальной конституции. Заслуживает внимания, что это великолепное, подлинно революционное отношение к конституции было сформулировано Робеспьером в речи 21 октября 1789 года, т. е. всего три месяца спустя после начала революции.
Главной своей задачей и при обсуждении статей будущей конституции, и в оценке текущих событий, и при определении задач революции Робеспьер считает защиту интересов народа.
Он последовательно борется в Учредительном собрании против всех антидемократических проектов, против всех предложений, покушающихся на права народа. Идея суверенитета народа, верховенства народа во всей политической жизни, приоритета интересов и прав народа над всеми остальными интересами и правами становится ведущей темой во всех выступлениях Робеспьера в Учредительном собрании и за его пределами. "Следует помнить, что правительства, какие бы они ни были, установлены народом и для народа, что все, кто правит, следовательно и короли, являются лишь уполномоченными и представителями народа..."* В этих словах очень четко сформулировано принципиальное отношение Робеспьера к конституции и ее назначению. Конституция должна выработать основные законы, обеспечивающие суверенитет народа.
* (Речь против вето короля (Ibid., p. 88).)
С этих позиций Робеспьер последовательно выступал в Учредительном собрании против всех антидемократических проектов, которые постепенно, статья за статьей, буржуазно-либеральное большинство Собрания принимало как части будущей конституции. Робеспьер сражается против предложений о прямом или задерживающем вето короля, против предложений о введении имущественного ценза для избирателей и избираемых, против разделения граждан на активных и пассивных и т. д.
В своих выступлениях в Учредительном собрании Робеспьер разоблачал истинный смысл политики большинства Национального собрания. Он прямо говорил об антинародном характере этого законодательства, он раскрывал своекорыстные, узкоэгоистические мотивы, которыми руководствовалось большинство Собрания.
"Если одна часть нации самодержавна, а другую ее часть составляют ее подданные, то такой политический строй означает создание режима аристократии. И что же это за аристократия! Самая невыносимая из всех - аристократия богатых, гнету которых вы хотите подчинить народ, только что освободившийся от гнета феодальной аристократии"*.
* (Oeuvres completes, t. VI, p. 131.)
Это суждение Робеспьера замечательно тем, что здесь он дает классовую оценку сущности политики либерального большинства Национального собрания. Из сферы политических или этических споров он переносит вопрос в область классовой борьбы. Реальный смысл всех антидемократических предложений большинства Собрания заключается в том, устанавливает Робеспьер, что оно стремится юридически, конституционно увековечить господство "аристократии богатых". Робеспьер сражается против этих тенденций, против этой политики, отстаивая интересы народа, которому угрожает новая опасность.
Был ли Робеспьер единственным в стране политическим деятелем, который осознал опасность увековечивания власти в руках "аристократии богатства", т. е. крупной буржуазии, как мы говорим сейчас? Нет, конечно.
Мы знаем, что Марат на страницах "L'Ami du peuplе", почти буквально в тех же самых выражениях, что и Робеспьер, выступал против попыток укрепить господство крупной буржуазии. "Что же мы выиграем от того, что уничтожили аристократию дворянства, если ее заменит аристократия богачей?" - негодующе спрашивал Марат в одной из своих статей июня 1790 года*.
* ("L'Ami du peuple", N 149, 30.VI.1790.)
Мы видим здесь не только сближение политических позиций Робеспьера и Марата, но и точное совпадение политических формулировок. Стоит ли производить изыскания, кто первый ввел в словарь революции термин "аристократия богатых" или кто первый выступил с призывом бороться против нее? Марат - он сам об этом писал - внимательно следил за выступлениями Робеспьера в Национальном собрании. Робеспьер, несомненно, должен был читать боевую газету Марата. Для более позднего времени это неоспоримо, так как Робеспьер об этом сам говорил. Но следует согласиться с М. Булуазо, который полагает, что Робеспьер и ранее регулярно читал "L'Ami du peuple"*.
* (Bouloiseau M. Robespierre, p. 19.)
Но едва ли нужно доискиваться, кому из этих двух политических деятелей должна быть отдана в этом вопросе пальма первенртва. Их позиции по многим (хотя и не по всем) политическим вопросам в это время были весьма близки. Но и кроме Марата тогда уже - в 1789-1790 Годах - против антидемократической политики Учредительного собрания выступали, хотя и менее последовательно, и Камилл Демулен, и Жорж Дантон, некоторые кордельеры, газета "Revolutions de Paris" и др.
Здесь важно иное. Если не в стране, то в Национальном собрании Робеспьер был все-таки почти единственным депутатом, кто вел систематическую и последовательную борьбу против этой политики. В Собрании его поддерживало не более четырех-пяти депутатов: к нему были близки Петион, Грегуар; они тоже были ораторами крайне левой. Все остальные - подавляющее большинство - были по отношению к нему либо открыто враждебны, либо недоброжелательно нейтральны.
Каким замечательным мужеством, твердостью характера, какой убежденностью в своей правоте надо было обладать, чтобы изо дня в день идти против течения, выступать в атмосфере настороженно враждебного внимания, одному против всех или почти всех!
Конечно, были и такие решения Учредительного собрания, которые Робеспьер поддерживал и одобрял. Учредительное собрание, как известно, приняло ряд декретов, имевших антифеодальный и, следовательно, безусловно прогрессивный характер. Такова была знаменитая Декларация прав человека и гражданина - документ большого революционного значения, сильнее, чем какой-либо другой, отразивший могучий революционный порыв народных масс, поднявшихся на борьбу против феодализма. Таковы были декреты об уничтожении сословий, наследственных титулов, о ликвидации старого феодального административного деления Франции, расчленявшего ее на ряд чужеродных провинций, и создании нового единообразного департаментского административного деления, о секуляризации церковной собственности, о гражданском устройстве духовенства, об отмене регламентации, цеховых ограничений и других преград, тормозивших развитие промышленности и торговли, о свободе печати, свободе вероисповедания и т. п.
Однако, одобряя это прогрессивное законодательство, Робеспьер рассматривал его только как начало: одних этих законов было явно недостаточно. Либеральное же большинство собрания считало, что этим законодательством исчерпаны задачи революции и что дальнейшая политика должна быть направлена не на развязывание и расширение революции, а, напротив, на сужение ее размаха, на торможение, ограничение инициативы масс.
В этой неравной борьбе, когда надо было использовать малейшую возможность, укреплявшую позиции, Робеспьер нередко опирался на прогрессивное начальное законодательство Учредительного собрания, чтобы противопоставить его реакционному законодательству позднейшего времени. Так, во время длительного обсуждения в Учредительном собрании вопроса о введении имущественного ценза для избирательного права, на чем настаивали и настояли буржуазно-либеральные депутаты Собрания, Робеспьер многократно противопоставлял этим реакционным предложениям принципы Декларации прав человеку и гражданина, которые он называл "незыблемыми и священными".
"Вам говорят, что в общем одобряют принципы Декларации прав. Но добавляют, что эти принципы допускают различное применение. Это еще одно великое заблуждение. Речь идет о принципах справедливости, о принципах естественного права, и никакой человеческий закон не может их изменить... Как же мы могли бы их применить ложно?"*
* (Речь в Национальном собрании 5 октября 1789 г. - "Меrcure de France", 17.X.1789; Oeuvres completes, t. VI, p. 181-182.)
Тактически этот метод борьбы был очень силен. Разоблачая антинародные, своекорыстные мотивы политики либералов-конституционалистов, навязывающих стране цензовую избирательную систему - конституцию для богатых, Робеспьер показывал, что этим самым они не только посягают на основные права народа, но и перечеркивают, кощунственно уничтожают те самые принципы Декларации прав человека и гражданина, которые тем же Учредительным собранием были провозглашены священными*.
* (Robespierre M. Discours a l'Assemblee nationale sur la neces-site de revoquer les decrets qui attachent l'exercice des droits du citoyen a la contribution du marc d'argent... Paris, 1791.)
Враждебное Робеспьеру большинство собрания не дало ему произнести эту речь. Робеспьер добился ее напечатания, и она произвела большое впечатление на современников.
Робеспьер не ограничивается только негативными выступлениями, критическим отрицанием политики большинства. Одна из замечательных черт его выступлений в Учредительном собрании в 1789-1791 годах состоит в том, что он с той же последовательностью и настойчивостью пропагандирует положительную программу демократических преобразований.
"Все люди рождаются в пребывают свободными и равными перед законом",- гласила Декларация. Цензовая конституция, разделение граждан на "активных" и "пассивных" являются прямым опровержением этого первого и важнейшего права, записанного в Декларации.
Но как осуществить это непререкаемое право на практике? Первым и необходимым условием для этого является всеобщее избирательное право. (Здесь нет надобности разъяснять, что Робеспьер, как и иные политические деятели того времени, не предусматривал распространение всеобщего избирательного права на женщин. В XVIII веке этот вопрос почти не стоял.) Во множестве выступлений - устных и печатных - Робеспьер отстаивал принцип всеобщего избирательного права. Народ - труженики, крестьяне, ремесленники - это самая Ценная часть нации, тогда как богатые несут с собою порок и преступления. В критике проектов цензовой избирательной системы Робеспьер развертывает руссоистскую аргументацию: бедность - добродетельна, богатство -г преступно. "... Где, собственно, источник крайнего неравенства имуществ, сосредоточивающего все богатства в немногих руках? Не находится ли он в дурных законах, в дурных правительствах, наконец, во всех пороках испорченных обществ?"*
* (Oeuvres completes, t. VII, p. 165.)
Соперничество двух программ - цензовой избирательной системы и всеобщего избирательного права - Робеспьер раскрывает как столкновение двух разных линий: не в юридическом или даже политическом аспекте, а в самом глубоком, социальном.
В чем сущность спора? Он проникает в самую суть его. "... Богатые претендуют на все, они хотят все захватить и над всем господствовать. Злоупотребление - дело и область богатых, они - бедствия для народа. Интерес народа есть общий интерес. Интерес богатых есть частный интерес. А вы хотите свести народ к ничтожеству, а богатых сделать всемогущими"*. Так снова Робеспьер разоблачает классовую сущность политических споров.
* (Ibid., p. 166.)
Не только в дебатах Учредительного собрания, но и во всей политической литературе первых лет Великой французской революции это была самая глубокая критика цензовой избирательной системы и самое глубокое обоснование законных прав народа на всеобщее избирательное право.
Отправляясь от тех же исходных позиций, Робеспьер требует последовательного применения этого принципа - приоритета, примата народа на практике. Он ясно видит опасность: богатые хотят захватить и увековечить свою власть и подчинить себе народ. Этой цели служит и установление имущественного ценза для вступления в национальную гвардию. Робеспьер со всей решительностью возражает против этого. Национальная гвардия создана для защиты родины, для защиты свободы. "Быть вооруженным для защиты Родины - это право каждого гражданина". И бедные имеют на это не меньшее, а большее право, чем богатые. Национальная гвардия выполнит свою роль, свое назначение, если только она станет тем, чем она должна быть: организацией вооруженного*.
* (См. выступления Робеспьера в Учредительном собрании 5 декабря 1790 г. и 27 апреля 1791 г. - Oeuvres completes, t. VI, p. 610; t. VII, p. 259, 261-267.)
Демократическая программа Робеспьера предусматривает меры, создающие некоторые гарантии от опасного усиления исполнительной власти. В сентябре 1789 года он выдвигает предложение об ежегодном переизбрании депутатов, Позже он предлагает увеличить число депутатов Законодательного собрания до тысячи человек *. Он требует введения отчетности должностных лиц перед избирателями.
* (Речь 12 сентября 1789 г. - Oeuvres completes, t. VI, p. 79; речь 18 ноября 1789 г. - Ibid., p. 140.)
Почти все предложения демократического характера, вносимые Робеспьером в 1789-1791 годах, позднее были реализованы во второй республиканской конституции 1793 года.
Но имели ли эти предложения какой-либо успех в те годы, когда они впервые вносились в Учредительное собрание депутатом от Арраса? Никакого. Ни одно или почти ни одно из предложений, внесенных Робеспьером, не было принято Учредительным собранием.
Его выслушивали: он заставил, он приучил себя слушать. Уже давно миновало время, когда самоуверенные, жаждущие острых ощущений депутаты бросали колкие реплики по адресу представителя города Арраса. Теперь они уже побаивались этого всегда тщательно одетого, в напудренном парике молодого человека, негромким, но твердым голосом высказывавшего свои убеждения, которого нельзя было ни подкупить, ни устрашить. Его слушали, слушали внимательно: надо было знать, чего он хочет, а затем единодушно голосовали против его предложений.
Но Робеспьера практическая безрезультатность его выступлений в Национальном собрании ничуть не смущала. На следующий день после того, как буржуазно-либеральное большинство Собрания отвергало его предложения, он готов был вновь выступать и новыми аргументами обосновывать отстаиваемые им принципы демократии.
Так что же, это был фанатик, слепой упрямец, не считавшийся с фактами, одержимый, находящийся во власти навязчивых идей?
Нет, конечно. Ни в характере, ни в душевном складе, ни в мышлении Робеспьера не было ничего от Дон-Кихота.
Этот молодой человек, непоколебимо уверенный в истинности своих убеждений и в необходимости, не щадя своих сил, отдавать все, до последнего дыхания, на благо своего народа, на благо революции, казалось, неожиданно совмещал в себе возвышенность мыслей и чувств с зоркостью орлиного взгляда, непреклонностью воли, трезвым расчетом острого и проницательного ума.
У этого ученика и последователя Руссо, восхищавшегося всеми добродетелями "апостола равенства и свободы", не было ни внутренней противоречивости, ни сомнений, ни мечтательности, которые были так свойственны "великому женевскому гражданину". Он всегда знал, чего он хочет и как достичь желаемого. Он был человеком действия.
Все то, что этим практичным буржуазным политикам, депутатам-дельцам казалось в речах депутата Арраса "отвлеченностями", "мудростью книжника" или опасными химерами, в действительности было точным выражением требований широчайших народных масс. Идея народного суверенитета, идея политического равенства, идея социального равенства - эгалитаризма - эти основные идеи, лежавшие в основе почти всех выступлений Робеспьера в Учредительном собрании и Якобинском клубе в 1789- 1791 годах, и были опосредствованным выражением главных требований народа, т. е. прежде всего крестьянства, ремесленников, пролетариата, демократической - мелкой и части средней буржуазии. В той же опосредствованной форме эти идеи в главном отражали основные объективные задачи революции.
Речи Робеспьера не могли переубедить депутатов большинства Национального собрания, представлявшего крупную буржуазию, откровенно стремившуюся к власти и наживе. Он это знал. Но через головы депутатов Собрания он обращался к народу.
Его голос был услышан. Уже с 1790 года начинает быстро расти его популярность в народе. Депутат от Арраса, речи которого вынуждены перепечатывать газеты, выражал мысли, стремления, чаяния, бродившие в умах и сердцах многих в стране.
Юный Сен-Жюст писал ему в августе 1790 года из Блеранкура: "Я не знаю вас, но вы - большой человек, вы не только депутат одной провинции, вы депутат всего человечества..."*
* (Переписка Робеспьера, с. 86; Soboul A. Saint-Just Introduction a Saint-Just. Discours et Rapports. Paris, 1957, p. 12.)
Скупой на похвалу Марат, не знавший еще лично Робеспьера, но читавший его речи, уже в октябре 1789 года писал, что "его имя всегда будет дорого для честных граждан", а год спустя, в октябре 1790 года, называл Робеспьера единственным депутатом, вдохновляемым великими принципами, "может быть, единственным истинным патриотом в Сенате"*.
* (В интересах точности надо добавить, что Марату случалось высказывать и критические суждения о Робеспьере (см. Марат Ж.-П. Избранные произведения, т. II. М., 1956, с. 292; т. III" 1956, с. 79).)
Не только передовые политические деятели, но и рядовые участники революции в провинции и Париже прислушивались к голосу Робеспьера и выражали ему свое горячее одобрение. Члены муниципалитета Авиньона в декабре 1790 года, принося Робеспьеру особую благодарность за его "прекрасную речь", не без восторженных преувеличений писали: "Если бы принципы, которые вы столь победоносно обосновали, были известны всем народам земли, скоро не существовало бы более тиранов"*. Муниципалитет Марселя в письме от 27 мая 1791 года назвал Робеспьера "человеком, гений и сердце которого преданы общественному делу, которого мы все больше и больше научаемся любить по мере того, как читаем его прекрасные речи, произносимые с трибуны". Ему шлют заверения в солидарности и одобрении его политических выступлений клуб кордельеров в Париже, клубы в Марселе, Версале, Тулоне и других городах, политические деятели и частные лица**.
* (Переписка Робеспьера, с. 92.)
** (Oeuvres completes de Robespierre, t. III. Correspondance.., prep, par G. Michon. Paris, 1936; Supplement. Paris, 1941.)
Слава Робеспьера в стране быстро росла. Но в Национальном собрании его речи по-прежнему встречали холодно-враждебную настороженность зала или глухой гул неодобрения. У Робеспьера голос был резкий, но негромкий. Он не мог перекричать шум. Он был близорук и щурился, порой даже надевал очки. Вероятно, он не видел дальше третьего-четвертого ряда скамей. Он не мог увлечь за собой аудиторию Учредительного собрания. Но он говорил не для этих нарядно одетых господ, всегда занятых честолюбивыми помыслами или корыстными расчетами. Его прищуренный взгляд скользил поверх голов депутатов, поверх этих напудренных париков - он смотрел в будущее.
V
Вареннский кризис, возникший в июне - июле 1791 года в связи с попыткой бегства и пленением королевской четы*, вскрыл глубокие внутренние противоречия революции.
* (Вареннским кризис стали называть по местечку Варенн, недалеко от границы, где были задержаны беглецы, возвращенные затем народом в Париж. С 21 июня в Париже и стране начались антимонархические выступления. Кризис закончился расстрелом народной демонстрации 17 июля 1791 года в Париже.)
Грозное негодование народа, требовавшего предания суду короля, быстрый успех идеи республики были лишь внешним выражением глубокой неудовлетворенности народных масс. За два года революции народ не добился осуществления своих основных требований, и прежде всего разрешения аграрного вопроса: уничтожения феодализма, феодальных повинностей, феодального землевладения в деревне. Неудовлетворенность крестьянства, городского плебейства и части средней буржуазии практическими результатами революции, еще мало что изменившей в их социальном положении, подогревалась крайним раздражением против захватившей власть крупной буржуазии и ее своекорыстной и антидемократической политики, осуществляемой законодательством Учредительного собрания.
Но хотя корни этого широкого народного недовольства были очень глубоки и были связаны со всеми коренными и оставшимися нерешенными вопросами революции, на поверхность в дни вареннского кризиса всплыли лишь политические вопросы - о судьбе монархии и республики *.
* (См. подробнее: Французская буржуазная революция 1789-? 1794 гг. Под ред. Волгина В. П. и Тарле Е. В. М. -Л., 1941; Ман-фред А. 3. Великая французская буржуазная революция. М., ^956, гл. VI; Mathiez A. Le club de Cordeliers pendant la crise de Varenne. Paris, 1910; suppl. Paris, 1913; Sagnac Ph. L'etat des esprits en France a l'epoque de la fuite a Varennes. - "Revue d'histoire moderne et contemporaine", 1909, t. 12.)
Максимилиан Робеспьер - политический деятель, шедший до сих пор впереди своего времени, в дни вареннского кризиса оказался позади хода событий. Позиция, которую он занял, была крайне противоречива.
21 июня, в день, когда Париж был потрясен вестью о бегстве короля, когда на улицах и в общественных зданиях разбивали бюсты Людовика XVI, Робеспьер выступил с речью на заседании Якобинского клуба. С присущим ему бесстрашием он обрушился против тогда еще могущественного большинства Национального собрания. Робеспьер обвинял "Национальное собрание в том, что оно предало интересы нации", всей своей политикой подготовив совершившееся. Его речь потрясла якобинцев. Когда он сказал, что принял бы "как благодеяние смерть, которая помешала бы ему быть свидетелем неотвратимых бедствий", восемьсот человек, присутствовавших в зале, окружили его плотной стеной. "Мы умрем вместе с тобой!" - раздавались возгласы*.
* (Oeuvres completes, t. VII, p. 518-523. Эта речь была напечатана в ряде левых газет: "L'Ami du peuple", N 515, 9.VII. 1791; "Les Revolutions de France et de Brabant", t. VII, N 82, и др.)
Но когда, в ближайшие дни, освободившиеся от монархических иллюзий демократические организации Парижа - Клуб кордельеров, Социальный клуб, часть якобинцев, народные общества - высказались за уничтожение монархии и провозглашение республики, Робеспьер отказался присоединиться к их требованиям.
Когда в Национальном собрании буржуазные конституционалисты, возглавляемые "триумвиратом" ("триумвиратом" называли депутатов А. Барнава, А. Дюпора и А. Ламета, игравших после смерти Мирабо роль руководителей фракции "конституционалистов"), больше всего страшась дальнейшего углубления революции, выдвинули лживую версию о "похищении короля", Робеспьер был единственным депутатом, боровшимся против этого решения. Такую же твердость и непримиримость к своим политическим противникам он проявил при первом расколе Якобинского клуба*.
* (Раскол Якобинского клуба произошел 16 июля 1791 года. Правая его часть, представлявшая крупную буржуазию, вставшую на путь противодействия дальнейшему развитию революции, порвала с Якобинским клубом и основала новый клуб - Клуб фельянов. с этого времени "конституционалистов" стали чаще называть "фельянами".)
Но даже после расстрела народной демонстрации 17 июля 1791 года, знаменовавшего превращение "конституционалистов" - группировки монархической крупной буржуазии в открыто контрреволюционную силу, Робеспьер все еще продолжал колебаться в вопросе о форме власти, не решаясь поддержать требование республики.
Противоречивость позиции Робеспьера в дни вареннского кризиса очевидна. Следует ли признать ее также ошибочной? Конечно.
Робеспьер в своих колебаниях в отношении республики исходил из давних, не раз им высказанных опасений, что республика может стать формой господства буржуазной аристократии. Но если раньше, когда были сильны монархические иллюзии масс, недооценка Робеспьером республики не имела практического значения, то в дни вареннского кризиса, поставившего вопрос о республике в порядок дня, его отрицательное или скептическое отношение к требованию республики становилось ошибкой. Сходную и также ошибочную позицию в данном вопросе занял в эти дни и Марат*.
* ("L'Ami du peuple", N 374, 17.11.1791; N 497, 22.VI. 1791, N 500 et 501, 25 et 26.VI.1791.)
Правильно, прозорливо понимая основные задачи революции и выступая глашатаем требований народа, Робеспьер в эти первые годы революции уделял преимущественное внимание вопросам политическим и меньше - социальным. Конечно, это можно понять и объяснить. Его выступления в значительной мере определялись теперь вопросами, которые стояли на повестке дня Учредительного собрания, а они в основном были политическими.
Следует также признать, что из всех депутатов Собрания Робеспьер занимал наиболее радикальную позицию по главному социальному вопросу - крестьянскому.
Он выступал несколько раз в защиту интересов крестьян, он оправдывал применение крестьянством силы против ненавистных ему сеньоров, он требовал отмены права триажа и возвращения крестьянам земель, которые со времени ордонанса 1669 года были грабительски захвачены феодалами*.
* (Oeuvres completes, t. VI, p. 228-240, 272 (речи 9, 22 февраля, 4 марта 1790 г.).)
Нельзя, однако, не заметить, что внимание, уделяемое Робеспьером крестьянскому вопросу, не соответствовало его действительному значению в революции. Он, видимо, еще не сознавал в ту пору, сколь жизненно важным для революции было первоочередное разрешение основных требований крестьянства.
Робеспьер хранил молчание при обсуждении в Учредительном собрании в июне 1791 года закона Ле Шапелье. Закон этот предусматривал запрещение рабочим организовываться в союзы и проводить забастовки*. Как убежденный поборник демократии, он должен был бы решительно восстать против этого откровенно антирабочего закона. Но этого не произошло. Ни в 1791 году, ни позже Робеспьер не выступал против закона Ле Шапелье и его применения на практике.
* (Buchez et Roux. Histoire parlementaire de la Revolution francaise, vol. I-XXXV, Paris, 1834-1838, vol. VII, p. 193-195.)
Из сказанного следует, что и лучшему из вождей Великой буржуазной революции XVIII века были свойственны ошибки, слабости, просчеты. Некоторые из них так и остались не преодоленными. Например, не только в период принятия закона Ле Шапелье, но и позже, во время якобинской диктатуры, Робеспьер сохранял все то же равнодушие к интересам рабочих.
Но от ряда ошибочных взглядов Робеспьер отказался. Робеспьера учила революция, он шел вперед вместе с нею. Вместе с развитием революционного процесса становилось шире, глубже, правильнее понимание Робеспьером задач революции. Его сила была в том, что он умел прислушиваться к голосу народа и считаться с ним. В отличие от Марата, который привык наставлять массы, гласно обращаться к ним со словами порицания, Робеспьер никогда не осуждал народ. Он видел в нем "главную опору свободы" и считал, что народ всегда прав.
Одним из последствий вареннского кризиса в области внешней политики было нарастание угрозы интервенции со стороны европейских монархий. 27 августа 1791 года в замке Пильниц в Саксонии император Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм II подписали декларацию о совместных действиях в поддержку французского монарха. Позже, 7 февраля 1792 года, между Австрией и Пруссией был заключен союзный договор, направленный против революционной Франции.
Бриссо и другие лидеры жирондистов с октября 1791 года стали выступать с зажигательными речами, призывая революционную Францию, не дожидаясь интервенции, начать освободительную войну против тиранов. Пропаганда революционной войны встречала сочувствие патриотически настроенных масс*.
* (См., например, Petition presentee a l'Assemblee nationale, le 18 decembre 1791, par les citoyens du bataillon de la section du Faubourg - Monmartre. Paris [1791].)
Но призыв к войне получил тайную поддержку и с другой стороны. Для Людовика XVI и Марии-Антуанетты с тех пор, как после неудавшейся попытки бегства они стали фактически коронованными пленниками народа, все надежды на будущее были связаны с войной. Только штыки иностранных интервентов могли вернуть королевскому двору во Франции утраченную им неограниченную власть.
В сентябре закончило свою работу Учредительное собрание, и 1 октября открылось избранное по цензовой избирательной системе Законодательное собрание.
После трех лет огромного напряжения и труда Робеспьер наконец получил возможность перевести дыхание. По решению Учредительного собрания ни один из его депутатов не мог быть депутатом Законодательного собрания. Это, естественно, распространялось и на Робеспьера. На полтора месяца он уехал в родной Аррас. Когда Робеспьер возвратился в Париж, он застал столицу в большом возбуждении. Везде только и говорили о близкой войне. Бриссо и его сторонников, призывавших к "войне народов против тиранов", в Якобинском клубе, в народных обществах принимали бурными аплодисментами.
Робеспьер некоторое время приглядывался. Ему нужно было разобраться в обстановке. Но уже в речи 12 декабря в Якобинском клубе осторожно, а затем во второй, большой блестящей речи 18 декабря в той же аудитории он выступил с убийственной критикой авантюристической и гибельной программы Бриссо. С замечательной проницательностью Робеспьер предсказывал, что при сложившемся во Франции положении война будет па руку двору и контрреволюции. Ораторы, играющие на патриотических чувствах народа, лишь помогают тайным коварным планам двора, стремящегося затянуть Францию в ловушку. Главный враг находится не вне страны, а внутри ее.
"На Кобленц, говорите вы, на Кобленц! - полемизировал с Бриссо Робеспьер.- Как будто представители народа могли бы выполнить все свои обязательства, подарив народу войну. Разве опасность в Кобленце? Нет, Кобленц отнюдь не второй Карфаген, очаг зла не в Кобленце, он среди нас, он в вашем лоне"*.
* (Oeuvres completes, t. VIII. Discours (3 partie). Paris, 1953, p. 39-42, 47-67 (речь 18 декабря 1791 г. Эта речь была издана отдельной брошюрой).)
В третьей и четвертой речах, посвященных вопросам войны (25 января и 10 февраля 1792 года), Робеспьер вновь и вновь блестящей аргументацией обосновывал эту мысль: главная задача - борьба с внутренней контрреволюцией, и, до тех пор пока эта задача не выполнена, нет шансов на победу над внешней контрреволюцией*.
* (Ibid., p. 132-152, 157-184.)
Робеспьер разоблачал опасный для революции характер революционной фразы, воинственной бравады жирондистских вождей, которым "не терпится начать войну, представлявшуюся им, видимо, источником всех благ". Он отвергал легкомысленную или преступную игру с войной. "Нация по отказывается от войны, если она необходима, чтобы обрести свободу, но она хочет свободы и мира, если это возможно, и она отвергает всякий план войны, направленный к уничтожению свободы и конституции, хотя бы и под предлогом их защиты"*.
* (Ibid., p. 47.)
Проявляя глубокое понимание принципов революционной внешней политики, Робеспьер полностью отвергал "ультрареволюционные" жирондистские идеи и планы "освободительной воины", т. е. "экспорта революции", выражаясь современным языком.
"А если иностранные народы, если солдаты европейских государств окажутся не такими философскими, не такими зрелыми, как вы полагаете, для революции, подобной той, которую вам самим так трудно довести до конца? Если они вздумают, что их первой заботой должно быть отражение непредвиденного нападения, не разбирая, на какой ступени демократии находятся пришедшие извне генералы и солдаты?" - иронически спрашивал сторонников "низвержения тиранов" Робеспьер. Он высказывал обоснованное опасение, что "вооруженное вторжение может оттолкнуть от нас народы, вместо того чтобы склонить их устремления навстречу нашим законам". Он решительно отвергал мысль, столь охотно пропагандируемую жирондистами, будто свободу народам можно принести на острие штыка*.
* (Ibid., p. 132-152 (речь в Якобинском клубе 25 января 1792 г.).)
Мудрые предостережения Робеспьера не могли переубедить даже якобинцев. В феврале 1792 года Якобинский клуб принял обращение к своим членам, в котором говорилось, что "нация желает войны", что она ждет лишь, когда наступит желанный момент и великий спор народов и королей будет решен на поле битвы*. Из влиятельных политических деятелей Робеспьера поддержал лишь Марат, занявший близкую к нему позицию**. Но Марат вернулся из Англии, где он вынужден был скрываться, лишь в апреле 1792 года, когда уже было создано жирондистское правительство и вопрос о войне был предрешен. Ни Робеспьеру, ни Марату не удалось повлиять на ход событий. 20 апреля 1792 года Франция объявила войну "королю Венгрии и Богемии" - австрийскому императору.
* (La Societe des Jacobins. Recueil des documents.., red. et introd. par A. Aulard, t. II. Paris, 1889, p. 513.)
** ("L'Ami du peuple", N 627, 12.IV.1792, N 628, 13.IV.1792.)
Война началась, и прежние споры потеряли свое значение. Теперь вставала иная задача. Раз война уже идет - война объективно оборонительная, справедливая - против реакционно-абсолютистских монархий, эту войну надо вести как революционную, народную войну.
Такова была политическая программа, с которой выступал теперь Робеспьер. Он отстаивал эти взгляды с трибуны Якобинского клуба. Но Робеспьер говорил всегда для народа, и ему нужна была еще и иная трибуна: менее случайная, чем та, которую он время от времени получал в Якобинском клубе. С марта 1792 года он стал издавать еженедельный журнал "Le defenseur do la Constitution" ("Защитник конституции")*.
* (Oeuvres completes, t. IV, содержащий полный комплект этого издания.)
Как и предвидел Робеспьер, война очень скоро стала для Франции цепью неудач и поражений. Вопреки хвастливым обещаниям жирондистских лидеров французские войска отступали под натиском интервентов. И это происходило не потому, что французским солдатам не хватало мужества и храбрости, а потому, что руководство армии было в руках генералов и офицеров, не хотевших драться за революцию. Измена прокладывала дорогу врагу. Она коренилась прежде всего в королевском дворце, ставшем осиным гнездом контрреволюции, она протягивала отсюда тонкие нити в штабы армии интервентов*.
* (См. Chuquet A. Les guerres de la Revolution, t. I. Paris, 1934 (первое изд. 1886); Mathiez A. La victoire en Fan II. Paris, 1916.)
Ни Законодательное собрание, ни "партия государственных людей"-так иронически называл Марат жирондистов, с тех пор как они сели в министерские кресла*,_ не умели и не хотели вести войну по-революционному. Преследуя отступающие французские войска, армии интервентов шли на Париж.
* (См. Марат Ж.-П. Избранные произведения, т. III, с. 263 и др.)
Огромное общественное возбуждение охватило в час опасности страну. К глубокой неудовлетворенности народа социальными и политическими результатами революции теперь присоединились оскорбленные национальные чувства, страх за судьбу родины. В монархии, в кознях лживого, обманывающего страну короля и ненавистной "австриячки" - королевы народ видел теперь главный источник бедствий, обрушившихся на Францию. С конца июня - начала июля в Париже и одновременно в провинции началась уже почти нескрываемая подготовка к свержению монархии.
Робеспьер еще весной 1792 года обнаруживал колебания в этом вопросе. Он еще не освободился от старой предубежденности против республиканской формы власти, которая ему все еще представлялась как "хлыст аристократического сената и диктатора". Но, хотя и с опозданием, он все-таки внял требованиям народа; он сумел у него переучиться*.
* (Oeuvres completes, t. VIII, p. 378-383, 388-389, 427-428.)
На страницах своего журнала "Защитник конституции" он печатает обращение прибывших в Париж федератов, полное боевой решимости: "В Париже мы должны победить или умереть"*. В июле 1792 года Робеспьер, отбросив все прежние сомнения и предубеждения, ратует за немедленное уничтожение монархии и провозглашение республики. Но одного лишь сокрушения старой исполнительной власти недостаточно. Л законодательная власть? Заслуживает ли она доверия?
* (Ibidem; "Defenseur de la Constitution", N 10; "Oeuvres completes", t. IV, p. 307.)
В сильной речи в Якобинском клубе 29 июля Робеспьер рисует программу смелой и решительной ломки всего государственно-политического организма страны. "Надо спасти государство каким бы то ни было образом; антиконституционно лишь то, что ведет к его гибели"*.
* (Ibidem.)
Это речь истинного революционера. Никакие конституционные, никакие формальные преграды не смущают бывшего лиценциата прав. Законодательное собрание доказало свое бессилие; оно показало себя соучастником преступных посягательств двора. Оно должно сойти со сцены; оно оставляет Францию беззащитной перед военным деспотизмом, перед посягательствами мятежников. Конвент! "Национальный конвент абсолютно необходим". Он должен быть создан на иной основе, чем не оправдавшее себя Законодательное собрание. "Где же еще найти любовь к родине и верность общей воле, если не у самого народа?" - спрашивал Робеспьер. И он требовал полного восстановления в правах того "трудолюбивого и великодушного класса", который был лишен прав гражданства. Отмена всех ограничений, связанных с имущественным цензом, введение всеобщего избирательного права для выборов в законодательные и все другие органы; Конвент, выражающий волю всех французов*.
* (Oeuvres completes, t. IV, p. 317-334.)
Робеспьер не ограничился в эти решающие дни речами. Он установил прямую связь с отрядами федератов-добровольцев из провинции, вступавших в Париж; он их подталкивал на прямые революционные действия.
В Париже сорок семь из сорока восьми секций требовали отрешения короля от власти. Вся страна поднималась против монархии. Тщетно жирондисты двуличными маневрами и тайным сообщничеством с двором пытались предотвратить народное восстание. 10 августа народ Парижа в тесном единении с отрядами федератов поднял восстание против ненавистной всем монархии. Народ победил. Людовик XVI был заключен в башню Тампль, Тысячелетняя монархия рухнула. Революция вступала в новый этап.
VI
Восстание 10 августа не только сокрушило и уничтожило монархию, но и подорвало политическое господство крупной буржуазии. Руководство победоносным восстанием принадлежало Коммуне и ее политическим вдохновителям - якобинцам. Жирондисты не только не поддерживали восстание, но и противились ему. И тем не менее им удалось воспользоваться плодами народной победы; в их руки фактически перешло руководство властью: и в Исполнительном совете, и в Законодательном собрании они заняли руководящее положение.
По рядом с этими, так сказать, "законными" органами власти после 10 августа возник новый орган - Парижская коммуна, опиравшаяся не на букву закона, не на легальный источник власти, а на вооруженное восстание. С первых же дней свержения монархии между Законодательным собранием и Парижской коммуной начались трения, вскоре переросшие в открытую, непримиримую борьбу.
Эта борьба по своему содержанию была шире и глубже конфликта между Коммуной и Собранием. Это была борьба Горы и Жиронды и стоявших за ними классовых сил. Гора, якобинцы представляли блок мелкой и средней буржуазии, крестьянства и городского плебейства - классовых сил, не добившихся еще осуществления своих требований в революции и поэтому стремившихся ее продолжить и углубить. Жиронда представляла торгово-промышленную и земледельческую (преимущественно провинциальную) буржуазию, которая, добившись наконец власти и относясь со страхом и враждою к народу, старалась остановить революцию, не допустить ее дальнейшего развития. В условиях ожесточенной войны и тяжелого экономического положения страны борьба Горы и Жиронды неизбежно должна была принять крайне острый характер.
Роль Робеспьера в этой борьбе была велика. Его участие в событиях 10 августа еще нельзя считать полностью выясненным исторической наукой. Несомненно, однако, что он оказывал немалое политическое влияние на подготовку выступления народа. Он связывал свою личную судьбу с надвигавшимся сражением. В письме к Бюиссару, без даты, но которое Мишон с должным основанием относит ко времени до 10 августа, Робеспьер писал другу своей молодости: "Если они (федераты. - A. M.) удалятся отсюда, не успев спасти отечество, все погибло. Пусть нам всем придется погибнуть в столице, но прежде мы испытаем самые отчаянные средства"*. Слова "нам всем" показывают, что он рассматривал и себя как одного из участников предстоящего восстания.
* (Переписка Робеспьера, с. 135.)
10 августа он выступал в Якобинском клубе. В кратком изложении его речи перечисляются практические предложения, которые он вносил: требовать созыва Национального конвента, добиться декрета, объявляющего Лафайета изменником, освободить заключенных патриотов из тюрем, открыть доступ на заседание секций всем гражданам; секциям установить связи с народными обществами и доводить волю народа до сведения Национального собрания; Коммуне - разослать своих комиссаров во все восемьдесят три департамента. Он доказывал также, как гласит отчет, "что было бы крайне неблагоразумно, если бы народ сложил оружие, не обеспечив предварительно своей свободы"*.
* (Oeuvres completes, t. VIII, p. 427-428.)
Как ни скуп этот отчет, но и на основании того, что он содержит, можно все же определить эту речь как выступление одного из политических руководителей народного восстания. Советы Робеспьера звучат как директивы. Они адресованы якобинцам, а это значит, что через короткое время из узких стен клуба они распространятся в самой гуще народа.
Тогда же, 10 августа, во второй половине дня Робеспьер был избран членом Коммуны, а затем членом ее Генерального совета.
И хотя надо считать несомненным, что он не участвовал в уличных сражениях, не штурмовал с оружием в руках Тюильрийский дворец, его роль в подготовке и в самих событиях исторического дня 10 августа была в действительности значительнее: он был одним из политических руководителей восстания.
Руководящее участие в народном восстании, а затем в Коммуне имело большое значение в идейно-политическом развитии Робеспьера. Конечно, он уже с 14 июля 1789 года восхищался народным восстанием и одобрял все смелые проявления революционной инициативы масс. Он стал революционером. Но все же ему самому приходилось участвовать лишь в борьбе, проходившей в легальных формах - в стенах респектабельного Учредительного собрания, где каждый из борцов опирался на безупречно законный, доверенный избирателями депутатский мандат.
10 августа Робеспьер оказался впервые вовлеченным в борьбу, представлявшую собственно революционное творчество масс. Первым опытом этого творчества было ниспровержение всех прежних законов и замена формальной законности высшим для народа законом - революционной необходимостью.
Робеспьер, учившийся у революции, обладавший особым даром - вернее и быстрее других усваивать ее уроки, сразу же сумел уловить эту важнейшую сторону событий 10 августа.
В замечательной статье "О событиях 10 августа 1792 года", написанной в ближайшие дни после народного восстания, Робеспьер писал: "Народы, до сих пор плуты говорили вам о законах лишь для того, чтобы вас порабощать и истреблять. В действительности у вас не было законов. У вас были только преступные капризы некоторых тиранов, прорвавшихся к власти путем интриги и опирающихся на силу... их преступления заставили вас еще раз взять в свои руки осуществление ваших прав"*.
* (Oeuvres completes, t. IV, p. 357.)
Бывший юрист-законник выступает в этих суждениях как великий революционер. Он ни в грош не ставит формальную законность, он ее полностью отрицает и противопоставляет этой развенчанной им законности высший закон - осуществление народом своих прав.
В той же статье Робеспьер еще не раз возвращается к этой важнейшей стороне минувших событий - осуществлению народом своих суверенных прав путем революционного восстания. "Весь французский народ, издавна униженный и угнетенный, чувствовал, что пробил час выполнения священной обязанности, возлагаемой самой природой на все живые существа и тем более на все нации, а именно обязанности позаботиться о своей собственной безопасности путем мужественного сопротивления угнетению".
В восстании 10 августа народ "осуществил свой признанный суверенитет и развернул свою власть и свое правосудие, чтобы обеспечить свое спасение и свое счастье... Он действовал как суверен, слишком сильно презирающий тиранов, чтобы бояться их, слишком глубоко уверенный в своей силе и в святости своего дела, чтобы снисходить до сокрытия своих намерений"*.
* (Ibid., p. 350.)
На опыте 10 августа Робеспьер еще глубже сумел понять спасительное значение, в определенных исторических обстоятельствах, революционного насилия масс. Он увидел воочию, какие неисчерпаемые возможности таятся в недрах народа.
Робеспьер стал одним из самых влиятельных руководителей Коммуны Парижа. Но он не только сам оказывал воздействие на работу Коммуны, но и учился у нее, постигал то, с чем ранее ему не приходилось соприкасаться. Коммуна была властью, действовавшей не на основе конституционных или каких-либо иных законных норм; это была власть, опиравшаяся на восстание и руководствовавшаяся в своих действиях революционной необходимостью или целесообразностью.
Товарищами Робеспьера в Коммуне были не прославленные ораторы, не выдающиеся литераторы, не именитые буржуа, как это было в Учредительном собрании, а безвестные простые люди, люди труда, руководители местных секций и низовых народных обществ, имена которых знали лишь в границах нескольких кварталов или даже одной-двух улиц. Каменотесы, ювелиры, наборщики, плотники, мелкие торговцы, начинающие журналисты, художники, маляры, клерки, пивовары - весь этот пестрый, шумный, боевой люд Коммуны, обладавший здравым смыслом, практической смекалкой, ни перед чем не пасующей отвагой, - это и был тот народ Франции, который до сих пор в устах депутата Учредительного собрания представал как некое собирательное понятие. Теперь в непосредственном общении с санкюлотами Парижа, в повседневной совместной борьбе против общих врагов Робеспьер проходил последнюю ступень своего идейно-политического развития*.
* (Робеспьер гласно заявлял, что он высоко ценит, гордится своим участием в Коммуне ("Oeuvres completes", t. IX, p. 86-95).)
20 сентября 1792 года в Париже собрался Конвент, избранный, как предлагали Робеспьер и его единомышленники, на основе всеобщего избирательного права. Соотношение сил в Конвенте как будто складывалось благоприятно для жирондистов. Опираясь на голоса провинции, они получили сто шестьдесят пять мандатов; у якобинцев было примерно сто. Подавляющее же большинство депутатов - около четырехсот восьмидесяти, не примкнувших ни к одной из группировок, - прозванное иронически "болотом", шло за теми, кто в данный момент был сильнее. Первоначально они поддерживали Жиронду, что, естественно, усиливало ее позиции в Конвенте.
Робеспьер, выдвинувший свою кандидатуру в Париже, прошел первым по числу голосов среди депутатов столицы. Его популярность в стране к этому времени была уже огромной. Идеи, которые он так твердо и настойчиво отстаивал во враждебном ему Учредительном собрании, теперь разделялись миллионами французов. В спорах со своими политическими противниками он оказался прав. Многие из его предсказаний сбылись. Уже в 1791 году, к концу работы Учредительного собрания, депутат от Арраса, служивший мишенью для острот монархических борзописцев типа Ривароля, стал самым знаменитым и самым любимым в стране народным представителем.
Со всех концов страны к нему шли письма со словами восхищения и благодарности за его мужество, патриотизм, защиту интересов народа. 30 сентября 1791 года, когда закрывалось последнее заседание Учредительного собрания, народ Парижа устроил ему овацию. В Якобинском клубе он пользовался непререкаемым авторитетом. Вся демократическая печать высказывалась о нем в тоне глубокого уважения. Марат писал о "славе, которой он покрыл себя, неизменно защищая интересы народа", о "народной привязанности, ставшей справедливой наградой за его гражданские добродетели"*.
* ("L'Ami du peuple", N 648, 3.V.1792.)
Эбер на страницах своего "Pere Duchesne" в присущем ему развязном тоне восклицал: "На мой взгляд, Робеспьер стоит больше, чем все сокровища Перу"*. В витринах стали выставлять его портреты.
* (Цит. по: Bouloiseau M. Robespierre, p. 27.)
В его внешнем облике, в его поведении ничто не изменилось. Со времени переезда из Версаля в Париж он жил в двух небольших комнатах на третьем этаже в доме № 8 по улице Сентонж. В августе 1791 года он переехал в дом к столяру Морису Дюпле на улице Сент-Оноре. Здесь в одной комнате деревянного флигеля он жил до последнего своего дня. Не только чистосердечное радушие Мориса Дюпле и его сына Симона привязывало Робеспьера к этой тихой, скромной обители. Он полюбил Элеонору Дюпле, дочь Мориса, и это чувство было взаимным. Но они все откладывали брак до близкой, как им казалось, поры торжества свободы над ее врагами - поры, которая для них так и не пришла.
Робеспьер оставался все так же беден, как и прежде. Он отказался от должностей, суливших ему высокие оклады. Его потребности были очень скромны. Деньги не имели для него никакой цены.
Простой народ, оценивший мужественную борьбу Робеспьера в защиту его интересов, его бескорыстие, чистоту его помыслов и дел, полюбил его и стал называть почетным прозвищем Неподкупный.
Конвент собрался при добрых предзнаменованиях. 20 сентября 1792 года в сражении при Вальми армия революционной Франции одержала первую победу над интервентами. Это было началом перелома в ходе военных действий. Под натиском окрыленных успехом революционных батальонов австрийцы и пруссаки стали откатываться на восток.
Первые заседания Конвента, озаренного лучами победы при Вальми, прошли при огромном патриотическом подъеме всех собравшихся в большом зале. Торжественно был принят декрет об уничтожении королевской власти. День 21 сентября был провозглашен началом "новой эры" - первым днем первого года Республики, четвертого года Свободы.
Считаясь с патриотическим воодушевлением, охватившим Конвент и страну, стремясь к консолидации всех революционных сил для достижения победы над врагом, якобинцы предложили примирение жирондистам. Марат на страницах своей новой газеты - "Газеты Французской республики" выступил 22 сентября с программной статьей, в которой заявлял, что он переходит к новой тактике - сплочения и объединения всех патриотических сил.
Но жирондисты, опьяненные своим успехом в провинции, поддержкой со стороны депутатов "болота", прочность которой они переоценивали, не приняли протянутой им руки. Они отвергли примирение и перешли в яростное наступление на Гору. Ряд ораторов Жиронды - Верньо, Ласурс, Ребекки, Барбару, Луве выступили с обвинениями Робеспьера и Марата в разных злодеяниях и стремлении к диктатуре. Гора подняла брошенную ей перчатку. Сражение между двумя группировками возобновилось с еще большим ожесточением.
Робеспьер отвечал своим обвинителям в ряде выступлений*. Он опроверг все личные обвинения и перенес полемику в плоскость политических вопросов. Он довел спор до самой сути разногласий. "Граждане, неужели вам нужна была революция без революции!.. Кто может точно указать, где должен остановиться поток народного восстания после того, как события развернулись?" - спрашивал Робеспьер депутатов в речи в Конвенте 5 ноября 1792 года**. Всей логикой своей блестящей аргументации он доказывал, что его противники - жирондисты являются противниками революции, стремящимися урвать у народа плоды его замечательной победы 10 августа.
* (Oeuvres completes, t. IX, p. 79-100.)
** (Ibid., p. 89.)
Не в характере Робеспьера было ограничиваться обороной - он перешел в наступление. Он обвинял жирондистов в заговоре против Парижа, в попытке противопоставить страну революционной столице. С замечательной проницательностью он вскрывал их двоедушие, намеренную уклончивость их речей, скрывающую за собой тайную враждебность революции, их коварные замыслы: под предлогом борьбы со смутьянами скрутить руки народу и поработить его вновь.
Когда в Конвенте встал вопрос о судьбе бывшего короля, Робеспьер, как и Марат, и Сен-Жюст, настаивал на самых суровых решениях. Он превосходно понимал - и последующий ход событий это полностью подтвердил,- что жирондисты всеми способами будут искать спасение жизни Людовика XVI. Спор о судьбе бывшего монарха меньше всего касался лично Людовика. Это был спор о судьбе революции: идти ли ей вперед или остановиться.
В речи в Конвенте 3 декабря 1792 года Робеспьер требовал смертного приговора бывшему королю. Его следует не судить, а покарать. Народ, свергнув его с престола, тем самым решил, что Людовик XVI - мятежник. Он не может быть судим потому, что он уже осужден. На смену старым конституционным законам пришел новый, высший закон, который является "основой самого общества,- это благо народа. Право покарать тирана и право свергнуть его с престола - одно и то же... Восстание - вот суд над тираном: крушение его власти - его приговор; мера наказания та, которую требует свобода народа. Народы судят не как судебные палаты; не приговоры выносят они. Они мечут молнию; они не осуждают королей, они погружают их в небытие"*.
* (Ibid., p. 129.)
Так мог говорить лишь истинно великий революционер. И замечательно, что эти проникнутые революционным бесстрашием слова принадлежали политическому деятелю, еще недавно в Учредительном собрании требовавшему упразднения навсегда смертной казни и так долго возражавшему против отмены института монархии во Франции. Робеспьер шел во главе революции, и, может быть, прежде всего потому, что он умел слушать ее голоса и, переучиваясь у нее сам, учил ее урокам других.
Вопреки требованию Робеспьера по настоянию жирондистов бывший король Людовик Капет был предан суду Конвента. Робеспьер, Марат, Сен-Жюст добивались его казни*. Жирондисты всякого рода двуличными маневрами старались спасти ему жизнь. Но когда по предложению Марата Конвент перешел к поименному голосованию, жирондистские лидеры проявили малодушие, и большинство голосовало за его казнь. 387 голосами против 334 Конвент приговорил Людовика Капета к смертной казни. 21 января 1793 года он был гильотинирован на площади Революции в Париже.
* (См. выступления Робеспьера в Конвенте 4 декабря 1792 г. (Oeuvres completes, t. IX, p. 137-140); 19 декабря (Ibid., p. 172- 175); 28 декабря (Ibid., p. 183-200); 15 января 1793 г. (Ibid., p. 227); 16 января (Ibid., p. 228-229); 17, 18 и 19 февраля (Ibid., p. 230- 231, 237-240, 243-244). Выступление Марата см. "Journal de la Republique francaise", N 65, 66, 82, 85, 99, 100, 101; Saint-Just. Discours et rapports. Paris, 1957, p. 62-69.)
Исход борьбы в Конвенте по вопросу о судьбе короля показал, что влияние жирондистов начало падать. И это было не случайно. Революция шла вперед, и соотношение классовых сил менялось.
Война затягивалась. Контрреволюционная коалиция европейских монархий расширялась. Помимо Австрии и Пруссии в ее состав входили теперь Англия, Голландия, Испания, Неаполитанское королевство, Сардиния, ряд мелких германских и итальянских государств. В марте 1793 года вспыхнул контрреволюционный мятеж в Вандее, перекинувшийся в Нормандию и Бретань. Ставленник жирондистов, тесно связанный с ними, генерал Дюмурье в марте вступил в переговоры с австрийцами и пытался повернуть армию на Париж. Измена Дюмурье открыла полосу военных неудач революционной армии. Войска Республики под натиском превосходящих сил интервентов отступали на всех фронтах.
Продовольственное положение страны становилось угрожающим. Быстрый рост дороговизны привел к жестокой нужде ремесленников, рабочих, бедный люд. В Париже и других городах начались волнения. Выдвигавшееся так называемыми бешеными* требование об установлении твердых цен на продукты питания ("максимум") встречало поддержку городского плебейства**. Главный вопрос революции - аграрный - оставался по-прежнему нерешенным, и потерявшее терпение крестьянство открыто выражало свое недовольство. С осени 1792 года вновь усилились крестьянские волнения.
* (О "бешеных" см. Захер Я. М. Движение "бешеных". М., 1962, а также ряд статей этого автора; см. также Markov Walter. Robe-spierristen und Jacqueroutins - "M. Robespierre". Berlin, 1958.)
** (Mathiez A. La vie chere et le mouvement social sous la terreur. Paris, 1927 (русский перевод 1928 г.); см. также Собуль А. Первая республика. Пер. с франц. М., 1976.)
Перед лицом этого углубляющегося кризиса Республики жирондисты обнаружили неумение и нежелание преодолевать его смелыми и решительными мерами. Вместо того чтобы бороться против возрастающего нажима внешней и внутренней контрреволюции, они были озабочены только борьбой против Горы. В час смертельной опасности, нависшей над родиной, они думали лишь о себе. Ненависть слепила им глаза. Классовый инстинкт подсказывал им верное понимание истинного смысла происходившей в стране борьбы. Один из самых проницательных жирондистов - Верньо в начале мая 1793 года говорил: "И замечаю, к несчастью, что идет жестокая война между теми, кого называют санкюлотами, и теми, кого по-прежнему именуют господами"*. Это соответствовало истине. Жиронда была фракцией господ, и потому все ее силы были направлены против санкюлотов, против народа. Но антинародные позиции с неизбежностью вели к антинациональным. От борьбы против народа лишь один шаг к открытой контрреволюции и национальной измене.
* (Цит по; Bouloiseau M. Robespierre, p. 69.)
3 апреля 1793 года Робеспьер выступил в Конвенте с речью о сообщниках Дюмурье. Он начал ее простыми и суровыми словами: "Необходимо серьезно заняться исцелением от наших недугов. Решительные меры, диктуемые угрожающими родине опасностями, должны покончить с этой комедией... Надо спасать родину при помощи подлинно революционных мер. Надо обратиться к силе нации..."
Но это было только вступление. За ним последовало прямое и неотразимое обвинение Жиронды в предательстве. Оно было персонифицировано. Робеспьер говорил не о всех депутатах, примкнувших к Жиронде, а о ее вожде. "Я заявляю, - сказал Робеспьер, - что никогда Дюмурье, никогда враги свободы не имели более верного друга и более полезного защитника, чем Бриссо". И он развернул цепь доказательств, обосновывающих это утверждение. "Я заявляю, - повторил он, - что истинная причина наших бед заключается в преступной связи между людьми, находящимися в нашей среде, и именно между указанным мною человеком и всеми теми, кто с ним водится". И он предложил декрет о привлечении к ответственности Бриссо по обвинению в соучастии с Дюмурье*.
* (Oeuvres completes, t. IX, p. 361, 363-366, 367. В речи в Конвенте 10 апреля Робеспьер наряду с Бриссо обвинил также Гаде, Верньо, Жансонне и других жирондистских лидеров (Ibid., р. 376-399).)
Робеспьер, как и Марат, уже давно вел борьбу против Жиронды. Здесь не место выяснять (да в том и нет особой нужды), кто из двух знаменитых революционных вождей сделал больше для развенчания фракции "государственных людей". Они не действовали согласованно: и Робеспьер, и Марат шли каждый своей особой дорогой. Им случалось выражать недовольство друг другом. Но оба они были беззаветно преданы революции и народу, ее творившему, и логика борьбы вела к все большему сближению их позиций. К 1793 году ход событий привел к тому, что Робеспьер и Марат (тогда еще также и Дантон, хотя уже с известными оговорками) стали самыми популярными вождями якобинцев, и им приходилось возглавлять борьбу против общего врага - Жиронды.
Эта борьба началась еще в 1791 году. После второго раскола Якобинского клуба (в октябре 1792 года) она стала гораздо острее. Робеспьер наносил теперь разящие удары своим противникам*. Но лишь в речи 3 апреля он довел свои обвинения до логического конца, обвинив вождя Жиронды и его сподвижников в предательстве и измене революции.
* (См. в особенности его речи против Бриссо и Гаде у якобинцев 27 апреля 1792 г. (Oeuvres completes, t. VIII, p. 304-318), речь в Конвенте 29 октября 1792 г. (Ibid., t. IX, p. 62-67), 5 ноября 1792 г. (Ibid., t. IX, p. 79-100), 19 декабря 1792 г. (Ibid., t. IX, p. 172- 175); речь в Якобинском клубе 13 марта и 12 апреля 1793 г. (Ibid., t. IX, p. 32-36, 419-421), речи в Конвенте 27 и 29 марта 1793 г. (Ibid., t. IX, p. 333-338, 324-340).)
Отныне наступал заключительный этап борьбы. Примирение было уже невозможно. Жирондисты ответили на обвинение Робеспьера чудовищными нападками на якобинцев, на революционный Париж и добились, нарушив депутатскую неприкосновенность, предания Марата суду Революционного трибунала.
В условиях надвигавшейся катастрофы, когда армии интервентов шли на Париж, а контрреволюционный мятеж внутри страны разгорался все шире, жирондисты, ослепленные ненавистью к Горе, становились на путь развязывания гражданской войны.
Выступая в Якобинском клубе 8 мая, Робеспьер говорил: "Во Франции остались лишь две партии: народ и его враги... Кто не за народ, тот против народа, кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов"*. В этих словах было глубокое понимание смысла развертывавшейся в стране классовой борьбы.
* (Oeuvres completes, t. IX, p. 487-488.)
Сила Робеспьера, сила якобинцев была в том, что они были всегда с народом, умели прислушиваться к голосу народа, понимать его нужды и требования. Робеспьер, как и другие руководители якобинцев, относился с перва недоверчиво, более того, отрицательно к "бешеным" и их политическим и социальным требованиям. Но, считаясь с желанием народа и сложившейся в стране обстановкой, он изменил свое отношение к их предложениям о "максимуме". После того как за "максимум" высказалась также Парижская коммуна, Робеспьер и якобинцы поддержали это требование и, несмотря на сопротивление жирондистов, провели в Конвенте 4 мая 1793 года декрет об установлении твердых цен на зерно.
Якобинцам удалось добиться некоторых иных, необходимых для спасения республики мер. По их инициативе в Париже были созданы народные комитеты бдительности. 20 мая Конвент принял декрет о принудительном займе у богачей одного миллиарда франков и т. п. Но самой необходимой для спасения Республики мерой было свержение власти Жиронды. Робеспьер уже с апреля 1793 года в выступлениях в Якобинском клубе требовал проведения практических решений революционного характера: создания революционной, составленной из санкюлотов армии, ареста подозрительных. Теперь пришла пора перейти к главному.
26 мая, выступая в Якобинском клубе, Робеспьер сказал: "Когда все законы нарушаются, когда деспотизм дошел до своего предела, когда попирают ногами честность и стыдливость - тогда народ должен восстать. Этот момент настал". 29 мая он вновь повторил в Якобинском клубе: "Я говорю, что если не поднимется весь народ, свобода погибнет"*.
* (См. его выступления в Якобинском клубе 3 апреля 1793 г.- Oeuvres completes, t. IX, p. 357-359; 526, 537.)
31 мая 1793 года в Париже началось народное восстание; оно было завершено 2 июня. Народное восстание свергло власть Жиронды и передало ее в руки якобинцев.
VII
В дни восстания 31 мая - 2 июня Робеспьер внес в свою записную книжку краткие заметки: "Нужна единая воля. Она должна быть или республиканской, или роялистской... Внутренние опасности исходят от буржуазии: чтобы победить буржуазию, нужно объединить народ..." И дальше: "Надо, чтобы народ присоединился к Конвенту и чтобы Конвент воспользовался помощью народа"*.
* (Цит. по: Матъез А. Французская революция, т. III. М., 1930, с. 13, 14.)
Эта запись говорит о многом. Робеспьер отчетливо видел ту классовую силу, против которой следовало бороться. Восстание было направлено против Жиронды, и Робеспьер говорил об опасности, исходящей от буржуазии. Это значит, что он хорошо понимал, какой класс стоит за противниками монтаньяров. Он понимал также и то, что победить Жиронду и буржуазию можно было, лишь сплотив вокруг Конвента народ.
Значит ли это, что Робеспьера 1793 года следует считать представителем плебейства, или "четвертого сословия", или даже социалистом, как его некогда изображал Матьез?
Нет, конечно. Якобинцы - повторим еще раз - представляли собой блок демократической (средней и мелкой) буржуазии, крестьянства и плебейства. Эти классово разнородные силы шли вместе, поскольку их объединяла общность интересов. Будучи связаны кровными интересами с совершавшейся буржуазной революцией, они все еще не добились удовлетворения своих главных требований и потому двигали развитие революции вперед. Понятно, требования эти не могли быть тождественны; поэтому позже внутри блока возникнут разногласия, но до определенного времени у входивших в якобинский блок сил были общие задачи и общие враги, и, выступая сплоченно, они достигали победы.
Было бы ошибочным, как мне думается, искать для Робеспьера точный социальный эквивалент. Якобинцы выступали как представители этого классово неоднородного блока, а этот блок ведь и был собственно французский народ. Иными словами, Робеспьер представлял и защищал интересы французского народа, творившего революцию.
Приведенные записи показывают, как отчетливо сознавал Робеспьер задачи революции в решающие дни восстания 31 мая - 2 июня. Для того чтобы "объединить народ", сплотить его вокруг Конвента, очищенного от жирондистских лидеров, нужны были быстрые и подлинно революционные меры.
И якобинский Конвент их находит. Аграрные законы 3 и 10 июня и 17 июля* дали крестьянам за шесть недель то, что революция не дала им за четыре года. Сокрушительный удар по феодализму в деревне и земля, хотя и не полностью, но в существенной части полученная крестьянством, обеспечили переход основных масс крестьянства на сторону якобинцев.
* (Напомним, что декретом 3 июня конфискованные земли эмигрантов дробились на маленькие участки, и для приобретения их бедным крестьянам предоставлялась рассрочка платежа на 10 лет. Декрет 10 июня делил общинные земли (свыше 8 млн. десятин) между крестьянами поровну на каждую душу. Декрет 17 июля уничтожил, без выкупа, все феодальные права, повинности, подати и привилегии.)
Матьез утверждал, что меры Горы, давшие крестьянству существенное удовлетворение, были проведены по проекту Робеспьера. В этом есть, конечно, доля преувеличения. Известно, что подготовка и проведение этих мер осуществлялись при участии множества лиц: членов комитетов по сельскому хозяйству и торговле, по феодальным правам, депутатов Конвента и т. д.*. Но надо согласиться с Матьезом в том, что Робеспьер не только нес за все эти меры ответственность, но и был, по-видимому, их вдохновителем.
* (Цит. по: Матъез А. Французская революция, т. III. М., 1930, с. 18. См. его речь в Конвенте 24 апреля и 10 мая 1793 г.)
С такой же поразительной быстротой, в течение трех недель, якобинцы выработали, приняли в Конвенте и поставили на утверждение народа новую конституцию. Эта республиканская, проникнутая духом последовательного демократизма конституция должна была служить идейно-политической платформой, призванной сплотить вокруг нее всю нацию.
Проблемы конституционно-демократического строя принадлежали к числу наиболее разработанных якобинцами вопросов. Робеспьер здесь мог опираться не только на теоретическое наследие Руссо, но и на свой собственный опыт борьбы за принципы демократии в Учредительном собрании. Обобщая живой опыт революции, в частности первый опыт республиканского режима, Робеспьер еще в период борьбы против Жиронды создал стройную систему взглядов по вопросам политической демократии*. Новое, что здесь было по сравнению с его конституционной программой периода Учредительного собрания,- это усиление гарантии сохранения народного суверенитета: выборность, отчетность и право отзыва государственных служащих, усиление контроля народа над работой законодательных органов; установление предельных сроков (два года) для избираемых государственных служащих и т. п. Новым было также и ограничительное толкование права собственности, внесенное в проект Декларации прав человека и гражданина, написанное Робеспьером "право на труд", что свидетельствовало о желании Робеспьера включить в будущую конституцию и некоторые элементы своих эгалитаристских взглядов**.
* (Oeuvres completes, t. IX, p. 459-470; Discours de M. Robespierre sur la Constitution. Paris (1793).)
** (Oeuvres completes, t. IX, p. 454-472 (текст проекта Декларации прав человека и гражданина); Ilamel Е. Histoire de Robespierre, t. II, p. 685-688, где отмечены разночтения проекта.)
Не удивительно, что эта конституция, в некоторых своих частях самая демократическая из всех действовавших в истории Франции до наших дней, будучи поставлена на утверждение первичных собраний, была единодушно одобрена народом.
Но истинное величие якобинцев и их вождя Максимилиана Робеспьера как подлинных революционеров проявилось в том, что, покинув почву изведанного, они бесстрашно пошли вперед по непроторенным путям. Их величие было в том, что, приняв самую демократическую конституцию и получив полное ее одобрение народом, они правильно оценили требования войны на смерть с внешней и внутренней контрреволюцией - отказались от применения на практике конституционного режима и заменили его другой, более высокой формой организации: власти - революционно-демократической диктатурой.
В отличие от вопросов конституционно-демократического строя, еще ранее теоретически разработанных якобинцами, проблема революционно-демократической диктатуры ни в якобинской, ни в какой-либо иной литературе не обсуждалась, да и не ставилась вообще. Исключением из этого общего правила и в этом, как и во многом другом, был Жан-Жак Руссо. В знаменитом "Общественном договоре" Руссо с гениальной прозорливостью предусмотрел возможность возникновения такого положения, когда станет необходимым отступление от обычных законодательных норм. В главе VI трактата, так и озаглавленной: "О диктатуре", Руссо писал: "Негибкость законов, препятствующая им применяться к событиям, может в некоторых случаях сделать их вредными и привести через них к гибели государство, когда оно переживает кризис... Не нужно поэтому стремиться к укреплению политических установлений до такой степени, чтобы отнять у себя возможность приостановить их действие..." Опираясь на исторический опыт Римской республики и в какой-то мере Спарты, автор "Общественного договора" считал, что при определенных условиях в качестве временной, даже кратковременной, меры может быть установлена диктатура одного или нескольких лиц, облеченных широкими правами.
Все сочинения Жан-Жака Руссо, и особенно "Общественный договор" с его программно-политическими вопросами, воспринимались Робеспьером как своего рода завещание Учителя, Учителя с большой буквы. Робеспьер через всю свою жизнь пронес не поколебленный ни на мгновение, безграничный пиетет к великому творцу учения о равенстве. Он многократно перечитывал Руссо; он как бы советовался с ним; раздумывал, как поступил бы в тех или иных обстоятельствах Жан-Жак.
Но ни в манере мышления, ни в натуре обоих Робеспьеров - ни Максимилиана, ни Огюстена - не было ничего ни от сухого педантичного догматизма, ни от склонности к схемам. То были люди творческого, даже азартного склада, смело шедшие в страну неизведанного; действие у них, как и у большинства других якобинцев, всегда первенствовало над словом.
Конечно, Робеспьер прочитал и обратил внимание на VI главу "Общественного договора" Руссо. Но ведь в трактовке Жан-Жака проблема диктатуры ставилась в самой общей, абстрактно-гипотетической форме.
Практически эта глава не давала никаких ответов на вопросы, неумолимо выдвигаемые жизнью в 1793 году. Она и не могла дать ни ответов, ни советов, ни рекомендаций: ведь она была написана почти за двадцать лет до начала революции.
В ходе революции у Марата более отчетливо, у Робеспьера как бы стихийно, порою появлялось понимание необходимости диктаторских действий народа, но это были лишь случайно мелькнувшие мысли, не получившие развития.
Якобинская революционно-демократическая диктатура возникла и сложилась не в результате сознательного ее подготовления - ранее разработанного плана или теоретического обоснования ее необходимости. Она была рождена и создана самой жизнью, революционным творчеством масс. И только после того, как она установилась, стала действительностью жизни, ее опыт был осознан, а затем теоретически обобщен якобинскими вождями, и прежде всего Робеспьером.
Собственно начало революционно-демократической диктатуры надо видеть в самом акте народного восстания 31 мая - 2 июня 1793 года и в установленном восстанием новом соотношении классовых сил в стране. Но якобинцы, придя к власти, не замечали или не осознавали этого. Положение республики было столь критическим, опасности, подстерегавшие ее со всех сторон, так быстро росли, что якобинцам в эти дни некогда было задумываться, осмысливать происходящее. Надо было действовать - надо было молниеносно отвечать ударом на удар, более того - опережать в ударах противников. Но в главном усилия якобинцев летом 1793 года были направлены на развязывание инициативы масс, всемерную демократизацию политического строя, расширение участия народа в революции.
Усилиями якобинцев в стране в короткий срок была расширена, а частью вновь создана сеть низовых выборных революционных органов - революционных комитетов. Вместе с "народными обществами", широко разветвленным по всей стране Якобинским клубом с его филиалами и другими демократическими клубами, собраниями секций в Париже и некоторых других городах эти созданные революцией новые, демократические организации стали формой непосредственного участия народа в государственном строительстве и политической жизни страны.
Через эти многообразные демократические организации выявлялась народная инициатива, осуществлялось революционное творчество масс и их воздействие снизу на высшие органы власти.
В борьбе против Жиронды, ставшей после 31 мая - 2 июня знаменем и объединяющим центром всех сил внутренней контрреволюции, Гора опиралась на силы народа и на его авангард - санкюлотов. Формула Робеспьера: "Кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов" - раскрывала социальный, классовый смысл этой борьбы. Война против Жиронды была борьбой бедных против богатых. Еще до восстания 31 мая Робеспьер в уже упоминавшейся программной речи в Якобинском клубе 8 мая говорил: "Есть только два класса людей: друзья свободы и равенства, защитники угнетенных, друзья бедных, с одной стороны, и деятели несправедливо приобретенного богатства и тиранической аристократии - с другой"*. Якобинцы - это были "друзья бедных". Сам Робеспьер подчеркивал свою принципиальную приверженность бедности. "Я тоже мог бы продать свою душу за богатство,- говорил он в той же речи. - Но я в богатстве вижу не только плату за преступление, но и кару за преступление, и я хочу быть бедным, чтобы не быть несчастным"**. В этих словах в сжатом виде сформулирована вся система взглядов якобинизма и его вождя Робеспьера в отношении богатства и бедности со всеми вытекающими отсюда выводами.
* (Oeuvres completes, t. IX, p. 488.)
** (Ibidem.)
Ведя войну "против богатых и тиранов", против Жиронды и армий европейских монархий, якобинская республика могла и должна была вести ее как народную войну, т. е. действовать народными, санкюлотскими средствами.
В начале сентября по требованию народных масс Парижа Конвент декретировал: "Поставить террор в порядок дня". Деятельность Революционного трибунала была расширена. Революционный террор был направлен теперь не только против врагов революции и подозрительных, но и против спекулянтов, скупщиков, нарушителей закона о максимуме.
В условиях жестокого продовольственного кризиса Конвент в интересах плебейства и по его требованию, правда не без борьбы, принял декрет о введении всеобщего максимума. Логика этого социального законодательства потребовала затем от государства жесткого регулирования распределения и торговли и все более властного вмешательства в важнейшие сферы экономической деятельности. Этого же требовали задачи снабжения быстро растущей армии, обеспечения ее оружием, боеприпасами и т. п.
Но и политические функции власти должны были быть усилены и укреплены. Ожесточенность гражданской войны, необходимость преодолевать и подавлять яростные атаки и скрытые диверсии неисчислимых врагов, намного превосходящих Республику своими силами, требовали совершенно иной организации государственной власти. Для спасения Республики надо было не только отражать удары, сыпавшиеся со всех сторон, надо было суметь ответными сокрушающими ударами подавлять по частям, один за другим всех врагов. Для этого нужен был не конституционный режим, а сильная централизованная власть, опирающаяся на широчайшую поддержку народных масс снизу и возглавляемая государственным органом, обладающим непререкаемым авторитетом и неограниченными полномочиями. Для этого нужна была революционно-демократическая диктатура.
Сама жизнь создала систему якобинской революционно-демократической диктатуры с ее широкими разветвлениями снизу - революционными комитетами, народными обществами и т. д. и самым авторитетным и авторитарным высшим органом - Комитетом общественного спасения.
Эта новая революционная власть, созданная творчеством народных масс в ходе гражданской войны, естественно, требовала своего теоретического осмысления и обоснования. Этому были посвящены усилия ряда деятелей якобинского правительства: Сен-Жюста, Барера, Билло-Варенна и др. Но наиболее целостное и стройное обоснование проблемы революционной власти дал Максимилиан Робеспьер.
"Теория революционного правления,- говорил он в речи 25 декабря 1793 года,- так же нова, как и революция, создавшая этот порядок правления. Напрасно было бы искать эту теорию в книгах тех политических писателей, которые не предвидели революции"*.
* (Robespierre M. Sur les principes du Gouvernement revolutionnaire. - Textes choisis, pref. et commentaire par J. Poperen, t. III. Paris, 1958, p. 99.)
Уже в этих словах, в самом подходе к вопросу чувствуется революционер, не страшащийся нового и готовый черпать уроки для народа не из книжной мудрости, не из "опыта отцов", а из живой практики революционной борьбы.
В чем же сущность революционного правления? В каком соотношении оно находится с конституционно-демократическим строем, за который ратовали вчера якобинцы?
Робеспьер понимает, что этот вопрос возникает перед каждым участником революции, и он дает на него совершенно ясный ответ: "Революция - это война между свободой и ее врагами; конституция - это режим уже достигшей победы и мира свободы". Ту же мысль он выражает еще лапидарнее: "Цель конституционного правления - в сохранении республики, цель революционного правления - создание республики" *.
* (Ibidem (текст всей речи стр. 98-109).)
Таким образом, по мысли Робеспьера, режим революционного правления - это переходный период.
В программном докладе "О принципах политической морали", прочитанном в Конвенте 5 февраля 1794 года, он еще раз уточняет, в чем существо "революционного правления" как переходного периода. "Для того, чтобы создать и упрочить среди нас демократию, чтобы прийти к мирному господству конституционных законов, надо довести до конца войну свободы против тирании и пройти с честью сквозь бури революции"*.
* (Robespierre M. Sur les principes de morale politique... - Textes cboisis, t. Ill, p. 111.)
"Война свободы против тирании" - вот в чем сущность "революционного правления". Но, чтобы довести эту справедливую войну до победного конца, режим революционного правления должен действовать иными методами, чем конституционный: он должен быть активен, действен, мобилен; он не может быть стеснен никакими ограничениями формально-правового характера. "Режим революционного правления,- говорил Робеспьер,- действует в грозных и постоянно меняющихся условиях, поэтому он вынужден сам применять против них новые и быстро действующие средства борьбы"*.
* (Robespierre M. Sur les princpes du gouvernement revolu-tionnaire. - Textes choisis, t. III, p. 99.)
Робеспьер, обладавший замечательной силой революционного мышления, сумел понять и, обобщив, показать народу величие этого нового переходного режима как формы революционно-демократической диктатуры. "Революционное правительство опирается в своих действиях,--говорил он,- на священнейший закон общественного спасения и на самое бесспорное из всех оснований - необходимость" (курсив мой. - А. М.)*.
* (Ibid., p. 108.)
Бывший воспитанник юридического факультета Сорбонны, готовый пожертвовать формально-юридической основой законодательства, он был великим революционером и потому, не колеблясь, ставил интересы революции выше формального права.
Он учился непосредственно у революции и с поразительной глубиной понимания и быстротой восприятия теоретически обобщал уроки революционной борьбы. Он понял, что в самой природе революционно-демократической диктатуры должно быть диалектическое единство двух важнейших задач: забота о благе народа и непримиримость, беспощадность в борьбе с врагами революции. В той же речи в Конвенте 5 февраля 1794 года, обращаясь к депутатам, Робеспьер говорил: "В создавшемся положении первым правилом вашей политики должно быть управление народом - при помощи разума и врагами народа - при помощи террора"*.
* (Ibid., p. 118.)
Реакционная историография не одно десятилетие клеветала на Робеспьера, изображая его кровожадным тираном, озлобленным существом, наслаждавшимся жестокостями террора, главным вдохновителем политики кровавых репрессий. Нет более низкой клеветы на Робеспьера, чем эта. Робеспьер был искренним и убежденным гуманистом, выступавшим уже в зрелом возрасте против применения смертной казни вообще. Он встал на путь поддержки революционного террора только тогда, когда тот стал необходимостью, средством самозащиты Республики от контрреволюционного террора внутренних и внешних врагов революции.
Как уже отмечалось, требование революционного террора было выдвинуто снизу, народными массами как необходимая мера самообороны. Народное движение 4-5 сентября 1793 года заставило Конвент "поставить в порядок дня террор".
Робеспьер не был бы великим революционером, если бы он не смог сразу же оценить спасительное значение для Республики в сложившихся условиях этого требования. Революционный террор для него не стал ни особым принципом, ни тем более самоцелью; он его рассматривал как временную, крайнюю меру, к которой во имя спасения революции, а следовательно, во имя спасения человечества должно прибегать революционное правительство.
"Террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость; тем самым он является проявлением добродетели", - говорил Робеспьер в той же речи 5 февраля 1794 года. И он добавлял, что террор следует рассматривать не как особый принцип, а как "вывод из общего принципа демократии, применимого при самой крайней нужде отечества"*.
* (Ibidem.)
Это и было то самое, доведенное до крайних логических выводов, применение идей Руссо о народном суверенитете, которое Энгельс определил сжатой блестящей формулировкой: "Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора"*.
* (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 267.)
Но был ли Максимилиан Робеспьер, были ли Жан-Поль Марат, Сен-Жюст, Кутон и другие якобинские деятели, столько раз повторявшие имя Руссо, только ревностными учениками великого женевского гражданина?
На первый взгляд сама постановка такого вопроса может показаться неправомерной. Разве Руссо когда-либо призывал к террору? Разве автор "Прогулок одинокого мечтателя" когда-либо предвидел то суровое время беспощадной революционной диктатуры, которая была установлена его последователями во Франции в 1793-1794 годах?
Нет, у Руссо нельзя, конечно, найти призывов к установлению режима революционного террора. Он и о революции, как известно, никогда не говорил в полный голос. И все-таки только что приведенное суждение Энгельса было глубоко верным. Режим революционно-демократической якобинской диктатуры во Франции был первой в истории попыткой осуществления на практике идей Руссо о народовластии, о равенстве, о справедливом общественном строе.
Но для того чтобы идеи Руссо, остававшиеся в течение многих лет "книжной мудростью", перевоплотились в суровую и грозную политику Комитета общественного спасения, для этого надо было, чтобы его ученики были не только ортодоксальными последователями его учения, но обладали и иными качествами.
Робеспьер до конца своих дней оставался искренним почитателем таланта Руссо и считал его истинным наставником революции. Он принимал великого Жан-Жака всего, целиком: не только "Общественный договор" и другие политические сочинения, но и "Новую Элоизу", и "Эмиля", и "Исповедь". Он стал убежденным последователем эгалитаристских концепций Руссо. Его литературный стиль - и читателю в этом нетрудно убедиться - также носит явственным отпечаток влияния Руссо*. Проницательный Пушкин, обладавший поразительным историческим чутьем, сумел заметить и большее. Он назвал Робеспьера "сентиментальным тигром"**. И в этом парадоксальном определении, улавливающем нечто противоречивое в облике Робеспьера, метко схвачено: сентиментализм "тигра" - это то, что было в Робеспьере от Руссо.
* (Это справедливо отмечали в свое время и Матьез (Etudes sur Robespierre. Paris, 1958, p. 45) и Олар А. ("Ораторы революции", т. I, с. 331).)
** (Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. VII. М., 1958, с. 356.)
Итак, Робеспьер принимал всего Руссо, вплоть до его сентиментализма. Но историческое величие Робеспьера в том и состояло, что он не остался робким подражателем автора "Общественного договора". Абстрактные политические гипотезы Руссо Робеспьер перевел на суровый язык революционного действия. Там, где мысль Руссо в нерешительности останавливалась, Робеспьер безбоязненно шел дальше. Он проверял истинность идей своего учителя практикой, и эта жестокая практика давала ему, конечно, неизмеримо больше, чем книжные советы Жан-Жака. С каждым днем он уходил все дальше вперед по сравнению с тем, кого продолжал называть своим учителем.
Робеспьер, как, впрочем, и Марат, и Сен-Жюст, и Кутон, как вся эта плеяда людей железной закалки - якобинцев, освободил руссоизм от присущей ему созерцательности и мечтательности. Это были люди дела, великие мастера революционной практики. Не мечтать, не грезить, не ждать; надо самому ввязываться в самую гущу сечи, разить мечом направо и налево, увлекать за собою других, идти смело навстречу опасности, рисковать, дерзать и побеждать.
Якобинцы, и среди них снова первым должен быть назван Робеспьер, освободили руссоизм и от его неясно-сумеречной, пессимистической окраски. Они видели перед собой не заход солнца, не закат, а зарю, пробуждение нового дня, утро, озаренное яркими лучами восходящего солнца.
У Робеспьера не было той грубой жадности к жизни, того необузданного кипения страстей, которые были так присущи мощной натуре Дантона. Он был строже и сосредоточеннее своих товарищей якобинцев.
В литературе существует версия, согласно которой при посещении юным Робеспьером в 1778 году Эрменонвиля, где в последние дни жизни уединился "одинокий мечтатель", на Руссо в беседе с этим молодым студентом Сорбонны наибольшее впечатление произвели не исключительная начитанность собеседника, не поразившее его знание, порою наизусть, сочинений Жан-Жака, в том числе и тех, которые он сам давно забыл, а нечто иное: твердый, непроницаемый, как бы стальной взгляд его чуть прищуренных глаз.
Трудно сказать, насколько верна эта получившая распространение версия; во всяком случае в ней нет ничего неправдоподобного. О внушавшем ужас людям с нечистой совестью прищуре неумолимых, стальных глаз Максимилиана писалось нередко.
Стальным, бестрепетным взглядом Максимилиан Робеспьер смотрел на приближавшихся врагов, на подстерегавшие его со всех сторон неисчислимые опасности: обходные маневры, подкопы, то здесь, то там расставленные западни. Он все видел, все замечал, ничто не ускользало от его казавшегося неподвижным, окаменевшим, но пристального взгляда, и бесстрастность его непроницаемого лица скрывала мысли и чувства, его волновавшие.
Но и для Робеспьера жизнь начиналась с утра. Воспитанный на литературе XVIII столетия, он был также романтиком, и его романтизм питался реминисценциями античности. Но он, как и его сверстники якобинцы, был чужд созерцательной мечтательности. Мир открывался для него не в своих красотах - он завоевывался в боях. Они прошли слишком суровую школу борьбы, чтобы хоть в малой мере предаваться элегическим настроениям.
"Прекрасно то, чего нет",- говорил Руссо. Робеспьер отверг эту пессимистическую формулу. К прекрасному путь лежит через подвиг, через борьбу, через сражения - так можно было бы определить мировосприятие Робеспьера.
"Пусть Франция,- говорил Робеспьер в 1794 году,- некогда прославленная среди рабских стран, ныне затмевая славу всех когда-то существовавших свободных народов, станет образцом для всех наций, ужасом для угнетателей, утешением для угнетенных, украшением Вселенной, и пусть, скрепив наш труд своею кровью, мы сможем увидеть, по крайней мере, сияние зари всеобщего высшего счастья"*.
* (Robespierre М. Sur les principes de morale politique. - Textes choisis, t. Ill, p. 113.)
Это "сияние зари всеобщего высшего счастья", "золотой век" человечества были, по убеждению Робеспьера, совсем близки, находились где-то рядом. Нужно было только напрячь последние усилия народа - объединиться, сплотиться и, ударив всей мощью, сокрушить врагов.
Это было вполне достижимо; можно было по пальцам перечесть то, что оставалось доделать: изгнать интервентов, подавить внутреннюю контрреволюцию, отправить на гильотину последних заговорщиков и предателей. Вот в сущности и все. И тогда одержавший победу народ обретет этот вожделенный мир свободы, равенства, справедливости, счастья.
Таков был путь к прекрасному, путь к счастью в представлении Робеспьера, и эта перспектива, которую он открывал для своих соотечественников, была исполнена величайшего социального оптимизма.
Революция непобедима. Никто и ничто не могут ей противостоять; ее силы неистощимы, и она в состоянии сокрушить любых своих врагов.
Таково было непоколебимое убеждение Робеспьера, почерпнутое им из опыта революции, и отсюда шли его неустрашимость, уверенность в правоте своего дела, непреклонная решимость в действиях.
VIII
То, что казалось чудом современникам и особенно врагам революции, то, что поражало позднее всех, кто пытался постичь загадочную историю Первой республики, - невероятная, ошеломляющая, почти необъяснимая победа якобинской Франции над ее неисчислимыми внешними и внутренними врагами - все это совершилось в ничтожно короткий срок - за двенадцать - тринадцать месяцев.
Якобинская республика, которая летом 1793 года, казалось, вот-вот падет под ударами теснивших ее со всех сторон врагов, сжатая кольцом блокады, интервенции, контрреволюционных мятежей, задыхавшаяся от голода, от нехватки оружия, пороха, всего самого необходимого,- эта Республика, уже хоронимая ее недругами, не только отбила яростные атаки и подавила мятежи, но и перешла в наступление и, к ужасу консервативно-реакционного мира, разгромила своих противников и стала сильнейшей державой Европы.
Более того, в исторически кратчайший срок - за одни лишь год - якобинская диктатура разрешила все основные задачи революции. Она разгромила феодализм так полно, насколько это было возможно в рамках буржуазно-демократической революции. Она создала четырнадцать армий, выросших как из-под земли, оснащенных современным оружием, возглавляемых талантливыми полководцами, вышедшими из низов народа и смело применявшими новую, революционную тактику ведения войны. В битве при Флерюсе 26 июня 1794 года армия Республики разгромила войска интервентов, изгнала их из пределов Франции и устранила опасность реставрации феодальной монархии. Территориальная целостность Республики была повсеместно восстановлена, и внутренняя контрреволюция - жирондистская, вандейская, роялистская - была разгромлена и загнана в глубокое подполье.
Все самые смелые обещания Робеспьера и других якобинских вождей были выполнены. Республика, казалось, подходила к последнему рубежу; за ним наступало возвещанное вождями революции царство свободы, равенства, братства.
Но, странное дело, чем выше поднималась революция в своем развитии, чем больше падало врагов, сокрушенных ее смертельными ударами, тем внутренне слабее становилась эта казавшаяся столь могущественной внешне якобинская республика.
Через неделю после блестящей победы при Флерюсе, потрясшей всю Европу, Максимилиан Робеспьер в речи в Якобинском клубе 1 июля 1794 года говорил: "О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению. Если клики наглы, если невинность трепещет, это значит, что республика не установлена на прочных основах"*.
* (Robespierre M. Oeuvres... avec une notice historique des notes et de commentaires par Lapponeraye.., t. 3. Paris, 1840, p. 672.)
Откуда же этот горестный тон у руководителя революционного правительства, которое, казалось бы, должно было только радоваться замечательным победам Республики?
Этот голос скорби, эти нотки обреченности, горести, разочарования, которые все явственнее звучат в выступлениях Робеспьера летом 1794 года, понятны и объяснимы: Робеспьер уже чувствовал, что победа, завоеванная огромными жертвами народа, ускользает из рук, уходит от якобинцев.
Так что же произошло?
В представлении Робеспьера, как и в сознании его соратников, да и всех активных участников революции, великая титаническая битва, которую они вели в течение пяти лет, была сражением за свободу и справедливость, за равенство и братство, за "естественные права человека", за всеобщее счастье на земле, как прямо и говорилось в Декларации прав 1793 года*.
* (Oeuvres completes, t. IX, p. 463-469. В окончательный текст были внесены некоторые изменения, не поколебавшие, однако, ее основные принципы.)
Робеспьер отнюдь не был похож на бедного рыцаря Ламанчского, жившего в мире выдуманных образов и грез. Напротив, можно было скорее поражаться удивительной проницательности, своего рода дару ясновидения, которыми был наделен этот человек в тридцать пять лет. Его орлиный взор охватывал все гигантское поле сражения; он распознавал враждебные действия противника в самом начале, и вслед за тем карающая рука Комитета общественного спасения настигала врага с быстротой, которую тот не предвидел.
И если Робеспьер при всей своей проницательности продолжал верить в наступление счастливого времени торжества добродетели, то это объяснялось не наивностью или незрелой мечтательностью. Он был политическим деятелем, находившимся на уровне передовой общественной мысли своего времени. Так думал не только он, так думали все лучшие умы конца XVIII столетия. Возглавляя революцию, представлявшуюся великой освободительной войной во имя возрождения всего человечества, они не знали, не понимали и не могли понять того, что в действительности они руководят революцией, которая по своим объективным задачам является буржуазной и не может быть иной.
Мы говорили до сих пор о сильных сторонах якобинской диктатуры и ее вождя Робеспьера. Но те противоречия и ошибки, которые проявлялись у Робеспьера впервые годы революции, стали больше и пагубнее по своим последствиям во время якобинской диктатуры. Эти ошибки, противоречия, просчеты не были личными недостатками Робеспьера: они вытекали из классового характера самой революции. Робеспьер был великим революционером XVIII века, но он был, сам того не сознавая, вождем Великой буржуазной революции, и этим были обусловлены его просчеты и ошибки, в этом была его трагедия.
С некоторых пор, а именно с того времени, когда революция сокрушила всех своих главных противников, когда она доказала миру рядом блистательных побед несокрушимость своих сил, Робеспьер явственно ощутил, что руль государственной власти, который так послушно поддавался его сильной руке, перестает ей повиноваться. Управлять им становилось все труднее.
В чем же было дело? Что же случилось?
Якобинская диктатура обеспечила решение задач буржуазно-демократической революции, действуя плебейскими методами. Но как только главные задачи революции были разрешены, враги ее повержены, непосредственная опасность реставрации устранена, все внутренние противоречия, заложенные в самой природе якобинской власти, немедленно всплыли на поверхность.
Уже говорилось о том, что якобинство представляло собой не однородную, не гомогенную в классовом и политическом смысле силу, а блок разнородных классовых сил, действовавших, пока шла смертельная война против феодальной контрреволюции, сплоченно и солидарно. В год ожесточенной борьбы против объединенной внутренней и внешней контрреволюции якобинское революционное правительство, опираясь преимущественно на силы народа, влияние которого в это время резко возросло, должно было проводить жесткую ограничительную политику по отношению к буржуазии.
Эта ограничительная и во многом репрессивная политика была подсказана самой жизнью. Законы о максимуме не нужно было обсуждать, принимать и проводить в жизнь, если бы продовольственное положение Республики не было столь плохим. Законы о максимуме были рождены прежде всего необходимостью. То же самое должно быть сказано о режиме революционного террора: он также являлся подсказанным самой жизнью, необходимым средством самозащиты. Можно было бы привести и другие примеры. Однако было бы неверным считать, что революционное правительство действовало, сообразуясь только с повелительным требованием жизни, что оно было правительством прагматиков, приспосабливавшимся к задачам, диктуемым сегодняшним днем.
Оно имело и положительные идеалы и в соответствии с ними позитивную программу; оно ставило перед собой Цель, к которой шло сознательно, преодолевая все трудности и заботы текущего дня. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, их товарищи и единомышленники - все они были последователями Руссо, а значит, и сторонниками его эгалитаристских идей.
В политике Робеспьера, в политике революционного правительства нетрудно заметить ту линию, которую они проводили вполне сознательно. Это эгалитаристская политика якобинского правительства.
Робеспьер отвергал установление полного имущественного равенства; он считал его неосуществимым, а пропаганду его вредной. По этим же мотивам он осуждал так называемые аграрные законы, под которыми понимали передел на разных долях всей земли, осуждал и выдвинутый Жаком Ру нашумевший тезис: "Необходимо, чтобы серп равенства прошелся по головам богатых!"
Но, не веря, вслед за Руссо, в возможность установления полного имущественного равенства, Робеспьер был искренне убежден в необходимости и благодетельности устранения крайностей имущественного неравенства. Он стремился к относительному уравнению состояний.
Когда в его руках и в руках его единомышленников оказались рычаги государственного управления, они пытались сделать все возможное, чтобы осуществить свою эгалитаристскую программу.
Политика принудительных займов у богатых, прогрессивно-подоходный налог, подушный раздел общинных земель, дробление земельных участков, подлежащих продаже, ограничение права наследования, применение террора против спекулянтов и нарушителей максимума, наконец, знаменитые вантозские декреты - все это служило доказательством того, что возглавляемое Робеспьером революционное правительство стремилось к осуществлению своей эгалитаристской программы, призванной установить "царство вечной справедливости".
Обратившая на себя внимание фраза Сен-Жюста в его первой речи о вантозских декретах: "Те, кто совершают революцию наполовину, тем самым лишь роют себе могилу"* - раскрывала все принципиальное значение вантозского законодательства. Сен-Жюст сформировался как политический деятель под идейным влиянием Робеспьера; он был его самым верным сподвижником; его взгляды о будущности Республики, несомненно, отражали и взгляды Неподкупного.
* (Saint-Just. Discours et rapports, p. 145.)
Но политика эгалитаризма, энергично проводимая якобинским революционным правительством, вела Республику отнюдь не к "счастью добродетели и скромного довольства", о чем мечтали ее вдохновители*. "...Идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач... - писал В. И. Ленин.- Равенство не только идейно выражает наиболее полное осуществление условий свободного капитализма и товарного производства. И материально, в области экономических отношений земледелия, вырастающего из крепостничества, равенство мелких производителей является условием самого широкого, полного, свободного и быстрого развития капиталистического сельского хозяйства"**.
* (См.: Soboul A. Les Institutions republicaines de Saint - Just, d'apresles manuscrits de la Bibliotheque nationale. - "Annales hisloriques de la Revolution francaise", 1948, p. 193 et suite.)
** (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 15, с. 226.)
Якобинцам и их вождю Робеспьеру не удалось полностью осуществить свою эгалитаристскую программу - создать республику "равенства мелких производителей". Но даже то, что они успели сделать - а сделано было немало: был сокрушен и уничтожен феодализм,- привело к результатам, подтверждающим глубокую истинность приведенного высказывания В. И. Ленина.
Политика якобинцев объективно, независимо от их воли, расчистила почву Франции, освободила ее от всех помех для роста буржуазии и капиталистических отношений. И как бы жестоко ни карала якобинская диктатура отдельных крупных буржуа, спекулянтов, наживал, как бы властно ни вмешивалась она в сферу распределения (сохраняя в то же время частный способ производства), вся ее суровая карательная и ограничительная политика была не в силах ни остановить, ни задержать рост экономической мощи крупной буржуазии. Более того, несмотря на искоренение ножом гильотины спекулянтов, несмотря на жесткую запретительную политику, за это время выросла новая, спекулятивная буржуазия, нажившая огромные состояния на поставках в армию, на перепродаже земельных участков, игре на двойном курсе денег, спекуляции продуктами и т. п.
До тех пор пока над страной нависала опасность победы армий интервентов и восстановления старых, феодально-абсолютистских порядков, эта новая буржуазия, кровными, материальными интересами связавшая себя с произведенным революцией перераспределением собственности, должна была покорно терпеть карающую руку якобинской диктатуры. Она должна была мириться и с возросшей ролью народа, и с ограничительным режимом, она должна была клясться в верности великим идеалам справедливости и добродетели, ибо только железная рука якобинских "апостолов равенства" могла ее защитить от штыков интервентов и возврата к прошлому.
Но как только опасность реставрации миновала, буржуазия, а вместе с нею и все собственнические элементы, тяготившиеся ограничительным режимом якобинской Диктатуры, стали искать средства избавления от него.
Вслед за буржуазией тот же поворот вправо совершило и зажиточное, а затем и среднее крестьянство. Революция избавила его от феодального гнета, феодальных повинностей, дала ему землю, открыла пути к обогащению. Но воспользоваться плодами приобретенного якобинская диктатура не давала. Система твердых цен, политика реквизиций зерна, проводимая якобинской властью, вызывала в деревне крайнее раздражение.
Поворот буржуазии и основных масс собственнического крестьянства против якобинской диктатуры означал складывание сил буржуазной контрреволюции в стране.
Робеспьер и революционное правительство сражались против неодолимой силы, против гидры, у которой на месте одной отрубленной головы сразу вырастало десять новых.
Революционный трибунал усиливал свою карательную деятельность. Процессы против спекулянтов, против нарушителей закона о максимуме шли с возрастающей быстротой; их исход в большинстве случаев был предрешен: смерть на эшафоте. Но сопротивление революционному правительству день ото дня становилось все ощутимее. Более того, это сопротивление чувствовалось теперь не только за пределами революционного правительства; оно давало о себе знать, пока еще в подспудной форме, и в стенах Конвента и даже в Комитете общественного спасения, а еще сильнее в Комитете общественной безопасности.
На кого могло опереться возглавляемое Робеспьером революционное правительство? На городское плебейство? Сельскую бедноту? На те общественные низы, которые теперь называют левыми силами? В. И. Ленин ответил на эти вопросы замечательной характеристикой: "...Конвент размахивался широкими мероприятиями, а для проведения их не имел должной опоры, не знал даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры"*.
* (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 195.)
Вернее не скажешь. Робеспьер, признанный вождь якобинцев, вождь революции, действительно на этом последнем ее этапе не знал, на какой класс революция должна опираться. Робеспьер и якобинцы были велики и могучи, когда они сплачивали и объединяли народ, поднимали его на борьбу против грозных сил феодальной контрреволюции и буржуазной аристократии. Их удары сохраняли ту же страшную мощь, и они шли во главе народа вместе с революцией вперед, сражаясь против крупной буржуазии, против Жиронды. Теперь они снова поднимали руку, наносили со всею силой удары, но не достигали врага: рука слабела и бессильно опускалась.
Политика, проводимая якобинским правительством, и в частности его социально-экономическая политика, вызывавшая теперь, с весны 1794 года, недовольство собственнических элементов, не удовлетворяла в некоторой степени и плебейство, и демократические низы вообще. Максимум был мерой, проводимой в интересах санкюлотов, неимущих городских низов в первую очередь. Но распространив максимум и на заработную плату рабочих, сохранив в силе антирабочий закон Ле Шапелье, якобинское правительство обнаружило непонимание нужд рабочих. Они выражали недовольство этим законодательством. По мере роста дороговизны жизни это недовольство усиливалось. В равной мере в своей аграрной политике якобинское правительство ничего не делало для улучшения тял^елого положения сельской бедноты, не защищало ее интересов. Проводимые же так называемые реквизиции рабочих рук, т. е. мобилизации, также вызывали ее недовольство.
Так раскалывались, расходились в центробежном движении классовые силы, составлявшие до сих пор единый якобинский блок. И это обострение противоречий в якобинском блоке неизбежно вело к внутренней борьбе в его рядах и к кризису якобинской диктатуры.
Но то, что теперь, без малого двести лет спустя, может спокойно проанализировать историк-марксист, располагающий всеми данными, накопленными исторической наукой, людям, находившимся в самой гуще событий, мыслившим понятиями и категориями того далекого XVIII века, представлялось, конечно, совершенно иначе.
Робеспьер чувствовал, он не мог не чувствовать, как вместе с победами, одерживаемыми революцией, растут препятствия на ее пути. Чем ближе он подходил к преданной цели, тем дальше она отодвигалась.
Революция, казалось, сделала все возможное, все мыслимое, чтобы восстановить "естественные права" человека; она сокрушила всех, кто посягал на эти "естественные права", кто попирал своими преступными действиями добродетель. Но Робеспьер убеждался в том, что по мере продвижения революции вперед люди не становятся лучше и число врагов Республики не убывает. Напротив, их становится день ото дня все больше.
Раньше, когда борьба шла против аристократов, против фельянов, против жирондистов, когда весь якобинский блок в братской сплоченности сражался с могущественными противниками, все было ясно. Но теперь борьба развернулась в рядах самого якобинского блока; теперь приходилось сражаться с людьми, которые еще вчера были товарищами по оружию, а некоторые, как Камилл Демулен,- личными друзьями.
Для Робеспьера, с его непреклонной волей, с цельностью его натуры, эти видения прошлого не могли стать непреодолимой преградой. Он вглядывался трезвыми, внимательными глазами в сегодняшний облик его вчерашнего собрата по оружию.
В его черновых "Заметках против дантонистов", заметках, столь непохожих на формальное обвинение, предъявленное Революционным трибуналом, обращают на себя внимание его попытки разобраться в сути Дантона. Может показаться даже странным, что Робеспьер в этих заметках сравнительно мало говорит о делах, о действиях Дантона и останавливается на каких-то незначительных на первый взгляд деталях. Так, он записывает: "Слово "добродетель" вызывало смех Дантона; нет более прочной добродетели, говорил он шутливо, чем добродетель, которую он проявляет каждую ночь со своей женой". И Робеспьер, для которого слово "добродетель" было священным, вслед за этим с ясно чувствуемым негодованием пишет: "Как мог человек, которому чужда всякая идея морали, быть защитником свободы"*.
* (Mathiez A. Les notes contre les Dantonistes. - "Etudes sur Robespierre". Paris, 1958, p. 138.)
И ниже он снова отмечает: "Секрет своей политики он, Дантон, сам раскрыл следующими примечательными словами: "То, что делает наше дело слабым,- говорил он истинному патриоту, чувства которого будто бы разделял,- это суровость наших принципов, пугающая многих людей"..."*
* (Ibidem.)
Робеспьер, мысливший категориями XVIII века, не давал и не мог дать классового определения политике Дантона, но он инстинктивно приближался к истине, считая главным в ней его недовольство "суровостью наших принципов". Недовольство принципами якобинизма - это и было то общее, что объединяло всех тяготившихся революционно-демократической диктатурой, всех торопившихся покончить с этими "высокими принципами" и скорее наброситься на земные блага.
Проникнутый сознанием своей обреченности, неустрашимый при своем презрительном равнодушии к смерти, Робеспьер был способен ценить чужую жизнь не больше, чем свою. Он послал на эшафот, или скажем осторожнее и точнее: вместе со всеми членами Комитетов общественного спасения и безопасности он предрешал казнь Дантона, Демулена, Филиппо и других, шедших по "амальгамированному" процессу 4-5 апреля.
Но поражая Дантона и Демулена (которого он, видимо, по-прежнему любил), Робеспьер надеялся, что вместе с ними будет поражена вся "факция", как говорили в XVIII веке, все поднявшие руку на добродетель, на священные принципы Горы.
Его трагедия была в том, что он не сумел сразу же разглядеть, вернее сказать, правильно оценить стоявшую за их тенями силу. Ему казалось вначале, что речь идет об одном или даже двух-трех десятках отщепенцев и интриганов, изменивших принципам политической морали, а на деле оказалось, что против революции движутся бескрайние ряды вражеских сил, что они напирают со всех сторон неодолимо, как катящаяся лавина. Крепкая, алчная, жадная буржуазия росла, поднималась из всех щелей и пор расчищенной якобинским плугом почвы Франции, и не было тогда силы, которая могла бы ее остановить.
Здесь не место излагать историю внутренней борьбы в рядах якобинского блока. Но следует напомнить, что удары революционного правительства были направлены не только направо, но и налево.
Еще в конце лета - начале осени 1793 года все якобинцы, выступая совместно, разгромили "бешеных" - самое левое течение во французской революции. В марте 1794 года, вступив в решающую борьбу с дантонистами, революционное правительство разгромило выделившуюся из рядов левых якобинцев группу эбертистов. В рядах эбертистов были люди разного толка, и предпринятая ими попытка поднять восстание не встретила поддержки санкюлотов. Но удар против эбертистов был распространен и на кордельеров. Через несколько дней после казни Дантона был предан Революционному трибуналу и затем казнен лучший представитель левых якобинцев Шометт, хотя он не поддержал выступление эбертистов. Вслед за тем была подвергнута "очищению" от приверженцев Шометта Парижская коммуна*.
* (Здесь нельзя не отметить, что изменение персонального со; става Коммуны ни в малой мере не повлияло на ее социальный состав. Он в основном остался тем же, и то, что называлось "ро-беспьеристской Коммуной", в классовом отношении почти не отличалось от "шометтистской Коммуны" (М. Eude. Etudes sur la Commune robespierriste. Paris, 1973).)
Робеспьер в своих выступлениях той поры представлял и дантонистов и левых якобинцев двумя разветвлениями одной, враждебной революции группировки: "...одна из этих двух факций толкает нас к слабости, другая ко всяким крайностям... Одним дали прозвище умеренных; другим - более остроумное, чем правильное, наименование ультрареволюционеров... Это все слуги одного хозяина, или, если хотите, сообщники, изображающие, будто они ссорятся, чтобы лучше скрыть свои преступления. Составьте мнение о них не по различию их речей, но по сходству результатов"*.
* (Robespierre M. Sur les principes de morale politique. - Textes choisis, t. Ill, p. 122-123.)
Робеспьер проявлял свойственную ему проницательность, угадывая замаскированное ярко-революционными цветами тайное родство лживого и коварного Фуше, мздоимцев и казнокрадов Тальена, Барраса, Фрерона и им подобных с "умеренными". Это были прикрывавшиеся разными защитными цветами лазутчики наступающей армии новой буржуазии. Робеспьер был прав и, несомненно, действовал в интересах революции, выступая против крайних террористов, своими бессмысленными жестокостями наносивших большой вред революции. Он проявил государственную мудрость, осудив политику дехристианизации, проводимую насильственными мерами Эбером, Шометтом и другими якобинцами и вызвавшую еще ранее опасное недовольство крестьянства.
Вместе с тем Робеспьер допускал ошибку, отказываясь видеть за пределами революционного правительства иные левые политические силы. А между тем такие силы были и играли значительную роль в революции. И Шометт, и шометтисты, и люди типа Моморо, и рядовые члены Коммуны - все они стояли левее руководимого Робеспьером якобинского правительства и являлись опорой якобинской диктатуры слева.
Та же противоречивость, те же ошибки проявлялись и в социальной политике якобинского правительства. Как уже говорилось, в марте 1794 года были приняты вантозские декреты, предусматривавшие бесплатный раздел собственности врагов революции среди неимущих. Конечно, вантозские декреты не были ни "программой новой революции", как их изображал в свое время Матьез*, ни тактическим маневром, что усматривал в них прежде всего Жорж Лефевр**. В вантозскнх декретах нашли свое воплощение эгалитаристские устремления Робеспьера, Сен-Жюста и других якобинских последователей Руссо, а их устами формулировались уравнительские чаяния народных масс.
* (Матьез А. Французская революция, т. III, с. 142.)
** (Lefebvre G. Questions agraires autemps de la terreur, p. 5.)
Вантозские декреты, будь они проведены в жизнь, означали бы увеличение числа собственников из рядов неимущих и, следовательно, расширение демократической базы революции. Их осуществление способствовало бы в известной мере экономическому и политическому разоружению какой-то части контрреволюционной буржуазии. Понятно, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что реализация вантозскнх декретов не изменила бы в конечном счете общего хода вещей. Но ведь это не было ясно участникам событий 1794 года, и само вантозское законодательство все же имело большое политическое значение.
Но, странное дело, прошел месяц, другой, а вантозское законодательство не реализовалось. Оно встретило отрицательное, вернее, враждебное отношение широких слоев буржуазии и зажиточного крестьянства. Оно натолкнулось на молчаливое сопротивление большинства членов Конвента, правительственного аппарата в центре и на местах.
Почему же грозная сила революционной диктатуры не была приведена в действие для осуществления принятых Конвентом декретов? Почему Робеспьер, проявивший непреклонную твердость в достижении цели, обнаружил в этом вопросе колебания и слабость, не решился сломить сопротивление вантозскому законодательству?
Куда идти? Какую программу предложить Конвенту, Горе, патриотам? Какой найти путь, который бы сохранил и упрочил единство народа с революционным правительством? Робеспьер, как и другие руководители якобинского правительства, искал ответа на эти вопросы, но не мог найти верного решения.
Путь дальнейшего углубления социального содержания революции, открывшийся вантозским законодательством, был оставлен. Он был не осужден, не отвергнут, никто даже вслух не высказал сомнения в его правильности, но с этого пути безмолвно сошли.
Робеспьер пытался найти иной путь. 7 мая 1794 года он выступил в Конвенте с большой речью в пользу культа "верховного существа"*. Идея ""верховного существа" - это идея социальная и республиканская",- говорил Робеспьер. Культ "верховного существа" был попыткой объединения и сплочения нации на почве новой государственной республиканской религии.
* (Robespierre M. Sur les rapports des idees religieuses et morales avec les principes republicans et sur les fetes nationales. Paris, an II; Buchez et Roux. Ibidem, t. XXXII, p. 353-381; Hamel E. Histoire de Robespierre, t. Ill, p. 540-541.)
Жерар Вальтер в своем исследовании о Робеспьере высказывает мнение, что эта речь наиболее полно и глубоко выражала мысли Неподкупного*. Может быть, это близко к истине. Во всяком случае, речь была написана или произнесена с несомненным воодушевлением. Робеспьер был еще полон надежд; эта речь еще дышала горячей верой в близкое достижение победы. "И вы, основатели Французской республики,- говорил он, обращаясь к членам Конвента,- остерегайтесь терять надежду на человечество или усомниться хотя на миг в успехе вашего великого начинания!
* (Waiter Gerard. Robespierre, t. I. Paris, ed. definitive, 1961, p. 429.)
Мир изменился. Он должен измениться еще больше!"*
* (Robespierre M. Sur les rapports des idees religieuses et morales... - Textes choisis, t. III, p. 156.)
Робеспьер рисовал картину огромных преобразований, совершенных французской революцией, французским народом. Он апеллировал к чувствам патриотической гордости: "Французский народ как будто опередил на две тысячи лет остальной род человеческий". Он говорил с восторженностью, почти в исступлении, о Франции - об этой чудесной земле, ласкаемой солнцем и созданной для того, чтобы быть страною свободы и счастья. Он напоминал депутатам Конвента о той великой миссии, которую история возложила на Францию, о славной и почетной ответственности каждого французского патриота. Он предостерегал против опасности, которую влечет за собою порок, оспаривающий судьбу земли у добродетели. Он призывал бороться против его развращающего влияния, он требовал от членов Конвента гражданской доблести*.
* (Ibid., p. 156-159.)
"Считайтесь только с благом общества и интересами человечества!" - восклицал Робеспьер *.
* (Ibid., p. 155-180.)
Но к кому были обращены эти слова? К собранию этих депутатов Конвента, намеренно громко и выставляя руки напоказ аплодировавших оратору и прятавших от него глаза? К Тальену, Баррасу - проконсулам в Бордо и Тулоне, мздоимцам и ворам, искоренявшим контрреволюцию потоками крови, превращаемой ими в золото? К вероломлому Фуше - политическому хамелеону, вчерашнему эбертисту, будущему министру полиции Наполеона? К маркизу Роверу де Фонвьелю - продажному перебежчику из лагеря аристократии, циничному, чуждому какой бы то ни было морали, стремящемуся заставить забыть его прошлое заискивающим панибратством с вожаками санкюлотов, беспощадному в неистовом терроризме, окрашенном в крайние революционные цвета и позволявшем ему под горячую руку мародерствовать, обворовывая свои жертвы? К Мари-Франсуа Лапорту, прикидывавшемуся верным служакой, рядовым якобинского блока, бесхитростным исполнителем воли Конвента, а позже, в 1796-1797 годах, обличенному в том, что он награбил свыше двадцати миллионов франков? К Фрерону - казнокраду и убийце, будущему главарю банд "золотой молодежи"? К Мерлену из Тионвилля, мечтавшему о княжеском особняке? К не раскрывавшему клюва, пока не придет его час, старому ворону Сиейесу?
"Благо отечества", "человечность", "добродетель" - это были пустые слова для всех этих завтрашних термидорианцев, тайных нуворишей, набивших себе карманы за годы революции и спешивших насладиться так легко доставшимся им добром.
Они уже сознавали свою силу; им уже надоела эта героика, эти призывы к доблести и добродетели; они перебрасывались быстрыми взглядами, но они понимали, что их время еще не пришло, и они, стоя, аплодировали Робеспьеру и единодушно голосовали за внесенный им проект декрета о культе "верховного существа".
8 июня в Париже в Тюильрийском саду, а затем на Марсовом поле состоялись торжества в честь "верховного существа". Зеленый парк Тюильри был украшен аллегорическими фигурами, созданными по проекту знаменитого Давида. Робеспьер, накануне единогласно избранный председателем Конвента, в новом голубом фраке, с колосьями ржи в руках, взошел на трибуну. От имени революционного правительства он произнес краткую речь.
"Французы, республиканцы, вам надо очистить землю, которую загрязнили тираны, и призвать вновь справедливость, которую они изгнали",* - говорил он.
* (Robespierre M. Oeuvres. . . par Lapponeraye, t. 3, p. 655.)
Народ устроил Неподкупному горячую овацию. Простые люди, верившие Робеспьеру, хлопали в ладоши и кричали: "Да здравствует Республика!" Могло казаться, что революционное правительство сильнее, чем когда-либо, что его позиции незыблемы.
Но это было иллюзией.
От якобинских клубов провинции и столицы в Конвент поступали приветственные адреса. В них одобрялся благодетельный культ "верховного существа". Но верить этому было нельзя. Бюро полиции Комитета общественного спасения, возглавляемое Сен-Жюстом, через своих осведомителей и агентов получало иные сведения: в народе культ "верховного существа" был встречен холодно, а большей частью враждебно.
Иначе и быть не могло. Попытки подменить решение больших социальных вопросов речами, декретами и манифестациями религиозного или полурелигиозного характера были заранее обречены на провал. Личный успех Робеспьера в Конвенте и на торжествах 8 июня в Париже не мог, конечно, ни заслонить, ни тем более изменить то крайне неблагоприятное для якобинской диктатуры соотношение классовых сил в стране, которое сложилось к лету 1794 года.
К тому же и личный успех Неподкупного был также иллюзорен. Санкюлоты, простой люд Парижа по-прежнему верили ему. Его жизнь была у всех на виду: став вершителем судеб Франции, он продолжал жить все там же, на улице Сент-Оноре, у столяра Дюпле. Он вел такой же простой образ жизни, ходил пешком, был так же беден, как и в дни своей безвестности. Трудовой народ это ценил: "Этот не продаст". Но в стенах Конвента уже не народ был хозяином. В день торжества 8 июня среди возгласов одобрения Робеспьер явственно различал враждебный шепот: то были знакомые голоса депутатов Конвента. Затем последовали попытки его убийства Амиралем и Сесиль Рено. И сам Робеспьер мог заметить злонамеренное усердие его мнимых друзей: все дела, связанные с его именем, сознательно раздувались. Так было не только с покушениями против него. Для того чтобы его скомпрометировать, изолировать от остальных членов Конвента, представить народу в смешном и невыгодном свете, было создано и раздуто дело полусумасшедшей старухи Екатерины Тео.
Успехи республиканской армии, блестящая победа при Флерюсе 26 июня, создавшие прочные гарантии от угрозы реставрации, усилили стремление буржуазии, объединившей все собственнические элементы, покончить с режимом революционно-демократической диктатуры. "Апостолы равенства" - якобинцы железной рукой убрали всех стоявших на пути революции. Тем самым они расчистили дорогу для буржуазии. Они сделали свое дело, и теперь буржуазия сама спешила убрать этих людей со слишком тяжелой рукой.
Робеспьер явно чувствовал это, так странно сочетавшееся с внешними успехами нарастание угрозы изнутри. В речи в Конвенте 22 прериаля (10 июня 1794 года) он признавался: "В тот момент, когда свобода добивается, по-видимому, блестящего триумфа, враги отечества составляют еще более дерзкие заговоры"*.
* (Ibid., p. 661.)
Но как пресечь эти заговоры? Как укрепить Республику? По какому пути ее повести? Эти вопросы снова и снова вставали перед руководителями революционного правительства.
Юрист, лиценциат прав, адвокат, всегда стремившийся использовать все процессуальные нормы в интересах защиты, Робеспьер сознательно пошел на их усечение, на сужение гарантий обвиняемого в судебном процессе ради ускорения работы Революционного трибунала, усиления революционного террора. Он энергично поддержал внесенный Кутоном 10 июня законопроект, предусматривавший реорганизацию Революционного трибупала и упрощение судебного процесса в целях быстрейшего покарания врагов революции*.
* (Ibid., p. 660-672.)
Впервые со времени падения Жиронды Конвент встретил предложение Комитета общественного спасения молчаливым неодобрением. Рюамп, Барер и некоторые другие депутаты неуверенно внесли предложение об отсрочке принятия закона. Но Робеспьер в резкой форме высказался за его немедленное утверждение. Конвент единодушно проголосовал, и проект 22 прериаля стал законом.
Террор усилился. Приговоры Революционного трибунала выносились быстро и большей частью повторяли одно и то же решение: смертная казнь. За полтора месяца, с 23 прериаля по 8 термидора, Революционный трибунал вынес тысячу пятьсот шестьдесят три приговора; из них тысяча двести восемьдесят пять произнесли - смерть и лишь двести семьдесят восемь - оправдание. За предыдущие сорок пять дней было вынесено пятьсот семьдесят семь смертных и сто восемьдесят два оправдательных приговора*.
* (Матьез А. Французская революция, т. III, с. 195.)
Был ли Робеспьер ответствен за этот достигший крайних размеров террор?
Он, несомненно, сыграл немалую роль в принятии закона 22 прериаля. Но этим его причастность к террору лета 1794 года исчерпывалась. Применение закона 22 прериаля на практике шло уже не под его контролем и не по его желанию. Снова, как и в вантозском законодательстве, он ощутил, что руль государственной власти подчиняется не его руке, а иным силам. Он уже не мог что-либо изменить, что-либо исправить. Кто-то намеренно раздувал пламя террора в расчете, что его зловещий отблеск падет на лицо Робеспьера. Те, на кого должна была опуститься карающая рука революционного правосудия, сумели захватить инструменты правительственной политики и использовать террор в своих целях.
Впрочем, во всем этом следует разобраться подробнее.
IX
Сама логика борьбы толкала якобинцев на террор. "Богатые и тираны", жирондисты и фельяны, сторонники монархии и старого режима менее всего были склонны сдавать свои позиции без боя. Они оказывали не только яростное сопротивление победившей 2 июня новой, якобинской власти; они переходили в контрнаступление, устанавливая прямые связи с правительствами европейских монархий и армиями интервентов, создавая могущественную коалицию всех сил внутренней и внешней контрреволюции.
Обороняясь от наступавших со всех сторон враждебных сил, якобинское правительство должно было прибегнуть к чрезвычайным мерам и, в частности, ответить на контрреволюционный террор революционным террором.
По поводу революционного террора было создано много версий, исторических конструкций, легенд. Пожалуй, ни один другой вопрос истории революции не был так запутан, произвольно или злонамеренно искажен, как вопрос о революционном терроре. Пора, давно пришла пора внести необходимую ясность в освещение этого вопроса.
Прежде всего, как это и соответствует требованиям исторической науки, рассмотрение терроризма 1793-1794 годов должно быть полностью свободно от всяких сентиментов, от всякого морализирования; вещи надо видеть такими, какими они были, раскрывая их историческую детерминированность.
Прежде всего - и это должно быть сказано со всей определенностью, не допускающей никаких кривотолков,- революционный террор был начат не по инициативе якобинцев; он был ответной, вынужденной мерой против контрреволюционного террора, развязанного первоначально жирондистами и их сообщниками по антиякобинскому подполью.
Напомним общеизвестные факты. После победы народного восстания 31 мая - 2 июня 1793 года якобинцы ограничились такими мягкими мерами, как домашний арест (т. е. фактически сохранение личной свободы) жирондистских лидеров и близких к ним депутатов - всего двадцать девять человек. Жирондисты бежали из-под домашнего ареста в Бордо и другие города юга и юго-запада и подняли там контрреволюционный мятеж. 13 июля 1793 года у себя дома в ванне был убит Шарлоттой Корде, вдохновленной на этот акт жирондистами, Друг народа Жан-Поль Марат. 16 июля после контрреволюционного переворота в Лионе был убит вождь лионских якобинцев Шалье. Еще ранее был убит в возмездие голосовавший за казнь Людовика XVI один из самых преданных идеям революции якобинских депутатов Конвента - Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо.
Терроризм как средство политической борьбы был, следовательно, впервые применен жирондистами и другими контрреволюционными группировками в июле - августе 1793 года. Индивидуальный терроризм, т. е. физическое уничтожение якобинских вождей, сочетавшийся с массовыми убийствами рядовых патриотов, как это было в Лионе, Бордо, Тулоне, всюду, где мятежники одерживали победу, был средством устрашения сторонников новой власти; террором Жиронда, фельяны, роялисты рассчитывали ускорить казавшееся им близким падение власти Горы.
Чтобы понять историю возникновения революционного террора (кстати сказать, неотделимого от других мер по укреплению революционной диктатуры), надо припомнить обстановку, сложившуюся в июле - августе 1793 года.
Положение Республики было катастрофическим. Казалось, что дни ее сочтены и нет и не может быть найдено средств, позволяющих якобинцам удержать власть в своих руках. Их падение представлялось большинству современников неотвратимым.
С того времени, как Республика швырнула к подножию европейских тронов голову казненного Луи Капета, силы контрреволюционной коалиции приумножились. В войну против революционной Франции вступили Англия, Испания, Голландия, ряд итальянских и германских государств. Россия, хотя формально и не примкнула к коалиции интервентов, поддерживала ее морально и политически. Почти вся монархическая, контрреволюционная Европа шла походом против мятежной Франции. С севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга армии интервентов вторглись в пределы Франции. Республиканские армии повсеместно отступали перед превосходящими силами противников. Тулон был захвачен объединенными действиями иностранных интервентов и внутренней контрреволюции. Роялистский мятеж в Вандее, вспыхнувший еще в марте 1793 года, быстро распространялся по северозападным департаментам. На юге и юго-западе власть перешла преимущественно в руки мятежных жирондистов. Впрочем, перед лицом общего врага различия между вчера жестоко спорившими между собой группировками - жирондистами, фельянами, роялистами - стирались. Отныне всех их объединяла непримиримая ненависть к якобинцам. Старые разногласия были отброшены в сторону: к чему о них вспоминать?! Главная задача, объединявшая всех противников Горы в единый контрреволюционный блок, была ясна и определенна: надо свергать правительство якобинцев. Вслед за Маратом та же участь была уготована Робеспьеру, Сен-Жюсту, Кутону. Гора должна быть сокрушена; то было первое, предварительное условие, открывавшее путь к иному будущему.
Летом 1793 года из восьмидесяти трех департаментов шестьдесят были во власти мятежников. Вышколенные, хорошо экипированные и превосходно вооруженные армии самых могущественных монархий Европы по всем дорогам двигались на Париж. Отрезанная от всей страны, сдавленная сжимающимся кольцом мятежей, интервенции, блокады, столица голодала. С раннего утра перед закрытыми дверями мясных лавок и булочных выстраивались длинные очереди.
Что могло спасти обреченный на гибель Париж якобинцев? Его падение, казалось, было предрешено. Но произошло чудо. Якобинский Париж устоял. В час смертельной опасности монтаньяры и в особенности их политические руководители проявили столько твердости духа, мужества, энергии, революционной инициативы, веры в силы народа, что смогли совершить казавшееся невероятным.
Аграрное законодательство июня - июля 1793 года якобинского Конвента, полностью сокрушившее феодализм (или "сеньориальный режим", как предпочитают говорить французские историки) и все его правовые пережитки и осуществившее перераспределение земельной собственности, отвечавшее в главном интересам крестьянства, имело своим следствием переход большинства крестьянства на сторону якобинского правительства*. К этой цели якобинцы и стремились. Можно упрекать с большим или меньшим основанием Робеспьера в том, что в его выступлениях уделялось мало внимания аграрным проблемам, но невозможно отрицать тот неоспоримый факт, что, как политический лидер якобинцев, он превосходно понял необходимость безотлагательного социального законодательства в интересах крестьянства и способствовал его проведению в жизнь.
* (См. Адо А. В. Крестьянское движение во Франции во время Великой буржуазной революции конца XVIII века. М., 1971.)
Безвозмездное освобождение от всех феодальных тягот, повинностей, пережитков крестьянство получило из рук якобинского правительства; оно получило от него же и общинные земли, и значительную часть эмигрантских земель, и часть национальных имуществ. Короче говоря, только якобинская власть сделала крестьянина полновластным, свободным от всякой сеньориальной зависимости собственником своего земельного участка. И ради этого, ради ставшей его полноправным владением земли он готов был драться со всеми покушающимися на эти его приобретения, о которых он мечтал столетиями.
Якобинская власть и ее политический вдохновитель Максимилиан Робеспьер в первую очередь стремились обеспечить народу, т. е. тому же крестьянству и большинству горожан - людям труда, бедноте, "средним слоям", наибольшую полноту политических прав. Они подготовили и предложили народу на утверждение самую демократическую из всех известных в истории буржуазных революций конституцию. Об этом уже говорилось ранее, но в данном контексте об этом следует еще раз напомнить, ибо только якобинская власть сумела обеспечить самую широкую в рамках буржуазной демократии свободу и реальную возможность творческой инициативы, творческого участия масс в созидании нового, освобожденного от всяких феодальных пут и пережитков общества.
Никто не был так внутренне далек, так психологически не подготовлен к кровавым мерам революционного насилия, как Максимилиан Робеспьер, Сен-Жюст или кто-либо другой из якобинских руководителей в ближайшие недели после победы народного восстания 31 мая - 2 июня 1793 года.
Но после того как Луи Давид создал бессмертное скорбное полотно - изображение поникшей головы и беспомощно повисшей, безжизненной руки убитого Марата, после похорон Друга народа, ставших днем всенародного траура, после того, как пришли известия о жестоком убийстве Шалье в Лионе, якобинские лидеры поняли, что медлить далее нельзя.
У якобинцев могли быть какие угодно недостатки, но они не были слюнтяями или резонерами. То были люди действия, не останавливавшиеся на полпути. На удар надо было отвечать ударом.
В вопросе о происхождении революционного террора, в вопросе о политической ответственности за революционный террор нет ничего неясного, сомнительного; здесь нет почвы для колебаний и различного рода толкований. Все однозначно и определенно. Ответственность за практику терроризма лежит на жирондистах и других участниках феодально-буржуазной контрреволюции. Они первыми встали на путь террора и принудили якобинцев на контрреволюционный террор ответить революционным террором.
Когда иные из политиков или историков молитвенно складывают руки, или возносят очи к небу, или иными жестами безмолвного отчаяния выражают свою скорбь по невинно погибшим душам, когда они клянут в кровожадной жестокости Робеспьера или Сен-Жюста, изображая их ненасытными демонами смерти,- все это должно быть отброшено как сознательное, насквозь лживое лицемерие, как попытка переложить на других вину за преступления, к которым были причастны их предки или они сами.
За возникновение терроризма как средства политики, политической практики ответственность несут не якобинцы, а их противники. Для якобинцев революционный террор был, повторим в последний раз, лишь ответной мерой. Именно в этом смысле и Маркс, и Энгельс, и Ленин его безоговорочно одобряли.
Но здесь возникают иные проблемы, и обойти их молчанием нельзя. Когда ныне наши современники - английский историк Коббен, или изменивший своим прежним убеждениям и перешедший к хуле и поношению якобинской диктатуры профессор Оксфордского университета Ричард Кобб, или французские историки Франсуа Фюре и Дени Рише - ведут фронтальную атаку против якобинской власти и якобинизма вообще, то вдохновляющие их политические мотивы вполне очевидны. Но столь же очевидна слабость их научных позиций. Ограничусь лишь одним примером. Фюре и Рише стяжали себе известность не столько необычайной роскошью и внешним богатством первого издания выпущенного ими двухтомного сочинения, сколько вызвавшим некоторый шум и законные возражения толкованием места и роли якобинского этапа в революции. Пользуясь жаргоном автомобилистов, Фюре и Рише утверждают, что в период якобинской власти Францию, как это порою бывает на больших скоростях, "занесло", отбросило в сторону*.
* (Furet F. et Richel D. La Revolution, v. 1-2. Paris, 1965.)
Эта вульгарная конструкция антинаучна прежде всего потому, что она игнорирует ожесточенность, беспощадность непримиримой войны между революционной Францией и превосходящими силами контрреволюции - внешней и внутренней. Фюре и Рише не видят или не хотят видеть, что в сложившихся реальных условиях - войны на смерть - между рождающимся новым, в конечном счете буржуазным обществом и старым, феодально-абсолютистским миром, еще полностью господствовавшим в Центральной и Восточной Европе, жесткая, сильная централизованная якобинская диктатура была исторической необходимостью. Без твердой революционной власти были бы невозможны ни сохранение основных социальных и политических завоеваний революции, ни обеспечение национального суверенитета, целостности и независимости Франции.
Такой же исторической необходимостью, рожденной непримиримостью смертельной войны, был и революционный террор. Здесь спорить не о чем.
Споры возникают с того момента в истории революции, когда применение революционного террора вышло за пределы исторической необходимости.
Ожесточенность, непримиримость, беспощадность с обеих сторон войны привели к обесценению, своего рода Девальвации человеческой жизни. Революцию творили молодые. Напомним еще раз, Максимилиану Робеспьеру, фактическому главе революционного правительства, было в 1793-1794 годах тридцать пять лет, Жоржу Дантону - столько же. Луи Антуану Сен-Жюсту, члену Комитета общественного спасения, представителю Конвента в армиях, решавших судьбы Республики, второму лицу по своему весу, значению и авторитету в правительстве, было двадцать пять - двадцать шесть. Ближайшим сподвижникам Робеспьера и Сен-Жюста было примерно столько же: Филиппу Леба, пользовавшемуся их неограниченным доверием и платившему им такой же преданностью, было двадцать девять лет; младшему Робеспьеру - Огюстену - двадцать девять - тридцать лет; руководителю Парижской коммуны Шометту - тридцать лет. Камилл Демулен на своем судебном процессе, предрешившем его смерть, в ответ на вопрос председателя о возрасте дерзко ответил: "Я в возрасте Иисуса Христа, мне тридцать три года". Анрио, командующему Национальной гвардией, было также тридцать три года в период решающих событий.
Молодыми людьми были не только руководители революционного правительства, но и их противники. Те, кто повел против них борьбу на смерть, принадлежали к тому же поколению молодых: Жозефу Фуше, который в нашем представлении всегда рисуется старым закоренелым преступником, в годы революции исполнилось тридцать лет; Тальену, смертельному врагу Максимилиана Робеспьера, едва лишь минуло в решающее время двадцать пять лет. Все они были в том возрасте, когда жизненная энергия бьет через край. Их возможности казались столь неисчерпаемыми и беспредельными, что жизнь не имела для них цены. Перечитайте речи якобинских вождей 93-94-х годов: все они полны презрения к смерти. И это не фраза и не поза, которые привлекали бы симпатии слушателей. Это выражение самой сути.
Без такого объяснения трудно понять, как все эти люди, в чьих руках находились рычаги политической власти, так легко пошли на расширение революционного террора, как терроризм незаметно, может быть для них самих, из чрезвычайной меры устрашения политических противников, меры воздействия перерос в повседневную, почти будничную практику. Если первоначально революционный террор применялся лишь как ответная мера на террористические действия контрреволюции, то после народного выступления 3-5 сентября 1793 года, после принятия 17 сентября так называемого закона о подозрительных он получил иную направленность. После сентябрьских событий 93-го года революционный террор стал применяться и по отношению к нарушителям законодательства революции. Спекулянты, взяточники, казнокрады, нарушители закона о максимуме предавались суду Революционного трибунала. Соответствующие документы были в свое время опубликованы, и по этим вопросам написано много книг и статей, может быть, даже больше, чем они того заслуживают. Ведь напоминал же когда-то Мишле, что все погибшие от революционного террора в Париже составляли едва лишь сороковую часть павших в бою солдат в сражении под Бородином.
Революционный террор приобрел иное значение, иное содержание с того момента, когда он был перенесен из сферы борьбы против врагов революции в область борьбы внутри якобинского блока. В ту пору, когда отправляли на гильотину Шарлотту Корде, или бывшую королеву Марию-Антуанетту, или пойманных с оружием жирондистских депутатов, революционный террор был средством политической борьбы.
Ответственность за эти акты возлагалась преимущественно на Робеспьера как на фактического главу революционного правительства, и Робеспьер не уклонялся от этой ответственности, считая, что в создавшихся условиях революционный террор представляет собой необходимость, ответную меру на действия контрреволюции. В речи 14 июля 1793 года в Якобинском клубе, на другой день после убийства Марата, Робеспьер говорил: "Надо, чтобы убийцы Марата и Пелетье искупили на площади Революции свое ужасное преступление. Надо, чтобы пособники тирании, вероломные депутаты, развернувшие знамя мятежа, те, кто постоянно точит ножи над головой народа, кто погубил родину и, в частности, некоторых сынов ее, надо, говорю я, чтобы эти чудовища ответили нам своей кровью, чтобы мы отомстили им за кровь наших братьев, погибших во имя свободы, и которую они с такой жестокостью пролили... Надо, чтобы каждый из нас, забывая себя, хотя бы на время отдался республике и посвятил бы себя без остатка ее интересам"*.
* (Робеспьер М. Избранные произведения, т. III, с. 36.)
В этом выступлении вполне ясно определены политические мотивы террористической практики, которую предлагал Робеспьер: "надо отомстить за погибших". Террор ограничивается здесь рамками ответной политической акции. И во всех своих выступлениях в Якобинском клубе, в Конвенте Робеспьер подчеркивает ту же мысль, не уклоняясь от личной ответственности за эти репрессивные меры.
Но с некоторых пор террору стали придавать расширительное толкование. Прежде всего жестокая угроза террора была предъявлена генералам. Перед армией Республики, перед ее командующими была поставлена простая дилемма: победа или смерть. Если присмотреться к документам революции, хранящимся в Национальном архиве Парижа, нетрудно увидеть, что почти во всех гербах, эмблемах Республики повторяется это категорическое, лаконичное требование: свобода, равенство, братство или смерть. Смерть стала альтернативой, ей можно было противопоставить только победу. И генералы, которые не могли обеспечить победу, должны были взойти на эшафот. Такова была судьба генерала Кюстина, генерала Ушара, генерала Вестермана и др.
Самое трудное в толковании революционного террора наступает после того, как он был перенесен на почву борьбы в самом якобинском блоке. Якобинская группировка никогда не была единой и сплоченной. Она и не могла быть такой, поскольку представляла интересы не какого-то одного класса, а блока различных классов. Об этом уже шла речь, но, может быть, для ясности надо еще раз повторить сказанное. Якобинцы представляли собой блок демократической средней и мелкой буржуазии, крестьянства и плебейских элементов города, городской бедноты, тех, кого французские историки обычно называют санкюлотами. Естественно, что при классовой неоднородности якобинцев и революционное правительство выражало также различные классовые интересы. Если в критический период революции, когда надо было спасать революционную Францию от армий интервентов, наступавших со всех сторон, от внутренней контрреволюции, от заговорщиков, убийц, шпионов, проникавших во все поры общества,- если в этот период якобинцы и соответственно революционное правительство в силу необходимости выступали единым и сплоченным фронтом, подчиняясь твердой руке Комитета общественного спасения, сосредоточившего всю полноту власти, то после того, когда самые трудные дни миновали, когда обозначился перелом, когда стало очевидностью, что Республика побеждает своих противников, внутренние противоречия, заложенные в самой природе якобинцев и якобинской власти, начали проступать наружу.
Наивны рассуждения тех историков, которые объясняют обострение внутренней борьбы в рядах якобинского блока весной 1794 года особенностями характера Максимилиана Робеспьера или Сен-Жюста или же противопоставляемым им темпераментом Жоржа Дантона. Не это определяло развитие событий. Личные особенности играют, не могут не играть какой-то роли, но эта роль большей частью и в данном случае также была второстепенной. В самой природе якобинской власти были заключены противоречия. Эти противоречия выступали яснее всего между имущей частью, собственниками, разбогатевшими или приобретшими добро за эти трудные годы борьбы, и неимущими, которые по-прежнему испытывали социальную нужду.
Эти противоречия имели и другие, более глубокие основания. Перечитайте выступления Максимилиана Робеспьера, собранные ныне в 9-м и 10-м томах его произведений, дающие наиболее полную картину политического мышления вождя якобинцев*. Робеспьер в своей аргументации исходит из морально-этических категорий. Он говорит о торжестве добродетели над пороком, о борьбе добра и зла, о справедливости, побеждающей преступление. И в этих своих морально-этических суждениях он остается всегда искренним. Ему так и представлялся смысл развертывавшейся борьбы как борьбы между добром и злом, справедливостью и несправедливостью. Не следует забывать, что он всегда остается верным последователем Жан-Жака Руссо, завещавшего, что в политической практике надо стремиться обеспечить торжество "естественных прав" человека. Робеспьер говорит с горячей и нескрываемой враждой о противниках революции, ибо в его представлении дело, начатое французскими революционерами, отвечает интересам не одних только французов, оно имеет и более общее значение: революция - это великое гуманистическое обновление человеческого рода. Элементы гуманизма, гуманистический подход, как это ни покажется парадоксальным недругам Робеспьера, всегда оставались преобладающими в его интерпретации происходивших событий.
* (Robespierre M. Oeuvres, t. IX-X.)
Верно и то, что Робеспьер никогда не приближался ни к Дон-Кихоту, ни к Гамлету, если в данном случае допустимо сопоставление с этими знаменитыми образами классики. Он стоял обеими ногами на грешной земле и смотрел противникам прямо в лицо. У него можно найти определения, которые подтверждают, что и он в ту пору ощупью, как бы инстинктивно приближался к пониманию классовой подоплеки происходившей борьбы. Он постоянно называл себя другом бедности: "Я горжусь, что я бедный". Он не хочет богатства, и в этом смысле он остается всегда последовательным руссоистом, отвергающим богатство как нечто преступное и позорное. Его осуждения Шабо, Базира, казнокрадов, замешанных в деле Ост-Индской компании, не содержат в себе ничего ни фарисейского, ни спекулятивного. Он убежден в том, что эти люди, погнавшиеся за грязным золотом, преступили границу запрета, отказались от подлинных задач революции.
Но было бы нелепым требовать от Робеспьера, или от Сен-Жюста, или от Кутона, Леба, от простого и преданного своему постояльцу столяра Мориса Дюпле понимания объективного содержания революционных процессов. Иными словами, от них нельзя требовать понимания того, что понимаем мы, историки-марксисты, почти двести лет спустя после драматических событий, о которых идет речь в нашем повествовании.
Трагедия Максимилиана Робеспьера и его друзей, трагедия якобинцев была в том, что они при тогдашнем уровне общественного сознания не могли оценить тех вещей, которые нам очевидны сегодня.
Великая французская революция была буржуазной революцией по своему объективному содержанию, и иной она быть не могла, потому прежде всего, что не было материальных предпосылок для любого другого решения. История поставила в порядок дня переход от феодализма к буржуазному строю, и, что бы ни говорили, чем бы ни обольщали себя деятели той эпохи, ничего иного, кроме утверждения буржуазного, прогрессивного для того времени общественного строя, тогда не могло быть. Эгалитаристские мечтания Робеспьера и Сен-Жюста, их надежды на то, что они создадут идеальное, справедливое общество равенства, были неосуществимы.
Объективным содержанием исторического процесса той эпохи была расчистка почвы Франции от всех феодальных пут, препятствовавших росту капитализма. Якобинское правительство за один год своей деятельности решило главные задачи, стоявшие перед французской революцией. Оно сломило и выкорчевало феодальные пережитки. Оно решило национальные задачи революции, отбросив армии интервентов и обеспечив национальную целостность, независимость и единство Французской республики, ставшей самой сильной державой Европы. Оно уничтожило или загнало вглубь подполья всех сторонников старого режима или противников нового порядка, нового перераспределения собственности, происшедшего за годы революции.
Якобинская власть беспощадно применяла революционный террор против нарушителей законов о максимуме, законов о продовольственной политике, в условиях голода жестко проводимой правительством. Многим спекулянтам пришлось поплатиться своей головой, неосторожные угодили на эшафот.
Но нельзя терять из виду, что, регулируя распределение продовольствия, властно вмешиваясь в различные области экономической жизни, революционное правительство оставляло неприкосновенным частный способ производства. Устранив всех противников нового, буржуазного строя, оно тем самым обеспечило новым, буржуазным отношениям необходимый простор. Бытописатели эпохи революции отмечали, что в это удивительное время наряду с картинами жестокой нужды, голода, испытываемых простыми людьми, можно было видеть и сцены разгула, бесшабашного прожигания жизни, кутежей, оргий, совершаемых какими-то неведомыми людьми. Незаметно из всех пор буржуазного общества вырастала новая, хищническая, спекулятивная буржуазия.
Революция ввела в обиход не только изобретение доктора Гильотена - безостановочно работающий эшафот, она создала и благоприятные условия для стремительного обогащения. Как можно было составить состояние в короткое время? Впоследствии знаменитый богач Франции Уврар откровенно рассказывал в своих воспоминаниях, как он создал свое состояние. Когда в 1789 году вспыхнула революция, Уврар, неглупый малый, с практической смекалкой и крепкой хваткой, сообразил, что после появления первых газет в Париже началось широкое распространение новой, еще невиданной во Франции литературы, массовой прессы - газет, листовок, брошюр. Создание массовой прессы, выход многих новых газет должны были резко увеличить спрос на бумагу. У Уврара имелись свободные деньги, и весь свой капитал он истратил на то, чтобы скупить бумагу по ценам, которые в начале 1789 года были еще невысокими. А затем, став если не монополистом, то одним из самых крупных обладателей бумажных запасов, он на перепродаже бумаги нажил миллионное состояние. За короткое время Уврар превратился в миллионера.
То, о чем рассказывал Уврар, делали, не рассказывая об этом ни в литературной, ни в иной форме, десятки и сотни других предприимчивых дельцов. На чем можно было заработать? На чем угодно: на перепродаже земельных участков, купленных по низким ценам и проданных по более высоким; на меняющемся курсе денег, а курс менялся непрерывно вследствие обесценения бумажных ассигнаций, и спекуляция на меняющемся курсе приносила миллионные барыши; на поставках в армию: республика создала за короткое время 14 армий, солдат надо было одеть и обуть, и ловкие люди, взяв на себя роль подрядчиков, составляли миллионное состояние. Наконец - мы к этому позже вернемся - на прямом воровстве. В годы великих социальных потрясений немало ценностей плохо лежало, и ловчилы, иной раз произносившие пылкие речи о великом долге Республики, в то же время незаметно прибирали к рукам все, что было возможно унести.
Буржуазия есть буржуазия. Для нее главным стимулом оставались прибыль, доходы, и Республика, как это ни парадоксально, с ее ожесточенными войнами, смертельной борьбой с внутренними и внешними врагами создавала такие благоприятные возможности для обогащения, каких никогда не было ни раньше, ни позже.
Должно быть принято во внимание и другое. За годы революции произошло крупное перераспределение собственности. Эмигранты, бежавшие за пределы Франции, бросали на произвол судьбы свои замки и земли, они тем самым отдали свои владения в распоряжение нации. Началась конфискация земель, эмигрантских замков, и тот, кто был более ловким, умелым, в короткий период аккумулировал огромное состояние.
Проникали ли эти процессы в ряды якобинцев? Под своды Конвента? В том нет никаких сомнений. Сама якобинская группировка расслаивалась и в какой-то своей части перерождалась. Те люди, которые еще вчера заявляли о своей верности великим принципам справедливости, о готовности служить человечеству, как только представлялась возможность, запускали руки в государственный карман и тащили из него то, что было можно. Процесс Ост-Индской компании, который так подробно был изложен Альбером Матьезом, показал это превращение части якобинцев в хищников, спекулянтов, казнокрадов, мародеров: Шабо, Базир, Фабр д'Эглантин, Эро де Сешель и другие депутаты Конвента оказались попросту либо ворами, либо соучастниками жульнических операций.
С какого-то времени стали распространяться слухи, что Жорж Дантон, до сих пор считавшийся одним из самых популярных вождей революции, уединившись в своем поместье Арси сюр Об, ведет образ жизни, трудно-совместимый с представлениями о добродетельном и скромном человеке. Здесь нет ни возможности, ни необходимости вдаваться в рассмотрение по существу вопроса о продажности Дантона, который был в свое время поднят Альбером Матьезом. С моей точки зрения, Матьез был все-таки слишком пристрастен к Дантону и в конечном счете несправедлив к знаменитому деятелю революции.
Дантон во всем оставался противоположностью Робеспьера, его прельщала не столько будущность человечества, сколько наслаждения сегодняшнего дня. Это был человек, живший жизнью напряженной, бурной и по возможности более легкой. Он любил материальные блага этого мира и не лицемерил, не пытался предстать в роли героя, прокладывающего пути будущим поколениям. Весьма возможно, что некоторые из конкретных обвинений, предъявленных Дантону сто пятьдесят лет спустя после его смерти Матьезом, имели под собой реальную почву. Дантон действительно последний год жил на широкую ногу. Откуда брались деньги для этой легкой, беспечной жизни - это остается и до сих пор недостаточно ясным. Но вместе с тем нельзя забывать и той большой роли, которую Дантон сыграл в критическое для Республики время, в сентябре 1792 года, когда он стал человеком, наиболее полно воплотившим все национальные силы Республики. Его с должным основанием и Маркс и Ленин называют великим мастером революционной тактики. Дантон остался французским патриотом и в последние дни своей жизни. Теперь вполне доказано, что у Дантона, осведомленного о подготовляемом против него ударе, были реальные возможности бежать из Франции, Знамениты вошедшие в историю слова Дантона: "Разве можно унести отечество на подошвах башмаков!" Это не было красивой фразой, эти слова выражали сущность Дантона. Дантон отказался от предоставленной ему возможности бежать. Он шел навстречу опасности с высоко поднятой головой.
Мы уклонились несколько в сторону и отошли от основного предмета. Хотел того Дантон или нет, но в силу своего политического и государственного авторитета он невольно становился тем центром, вокруг которого объединились все недовольные справа революционным правительством. Все те, кто нажил огромные деньги, но был вынужден прятать их в кубышки и ходить в скромном бедном костюме, чтобы не привлекать к себе внимания, все те, кто имел основания опасаться тяжелой руки Комитета общественного спасения, кто с тревогой оглядывался на Робеспьера, не замечает ли он тайных проделок, к которым они прибегают,- все они искали покровительства и защиты. Хотел того или нет, повторяем еще раз, Дантон, но он невольно становился вождем, защитником этой группы разбогатевших людей.
Растущая, быстро набиравшая мощь новая, спекулятивная буржуазия и стала той главной силой, которая потенциально была направлена против революционного правительства. До поры до времени она должна была с ним мириться, хотя и была занята только наживой, одной лишь наживой, ничем иным. Но кто-то должен был защищать Францию от армий интервентов, кто-то должен был обеспечить победу на фронтах. Это могли сделать люди железной закалки, люди калибра Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, Леба, а не все эти дельцы, стяжатели, озабоченные наполнением своих карманов. И дельцы аплодировали Робеспьеру, объявляли себя верными сторонниками Горы, революционерами и защитниками революционного правительства. Они знали, что если интервенты победят, если осуществится реставрация старого строя, то надо будет все отдавать, не только награбленное богатство, по и поместья и замки, которые они сумели купить за бесценок, всем придется за все поплатиться. Поэтому до поры до времени они поддерживали революционное правительство, возглавляемое Робеспьером.
Но когда к весне 1794 года стало уже вполне очевидным, что революция побеждает, что армии Республики переходят в контрнаступление против армий интервентов, когда постепенно один департамент Франции за другим переходил под власть Республики, тогда в их среде зародилась мысль, что надо искать пути освобождения от этой жесткой и требовательной власти.
Поворот вправо новой, спекулятивной буржуазии, ставшей ведущей классовой силой, повлек за собой и поворот крупного, собственнического крестьянства. Не следует забывать, что на продаже национальных имуществ, как и на дележе общинных земель, на распродаже эмигрантских владений разбогатела не только городская буржуазия, но и крестьянская верхушка деревни. За годы революции возник новый класс, многочисленный класс крестьян-собственников, держащихся за каждый участок приобретенной земли. Эти крестьяне-собственники также мирились с якобинской властью до тех пор, пока угрожала опасность возвращения сеньоров, возвращения помещиков, пока крестьянин боялся, что у него отберут землю и заставят снова работать на бар. Французская армия была в основном крестьянской армией. И крестьяне дрались не на жизнь, а на смерть с вражескими войсками, потому что они защищали в этой войне приобретенные ими владения, дрались за свои кровные интересы.
Но когда победа стала склоняться на сторону Республики, в особенности после решающего сражения под Флерюсом в июне 1794 года, когда опасность реставрации перестала быть реальной угрозой, крестьянство, зажиточное крестьянство прежде всего, стало открыто выражать свое недовольство якобинской диктатурой. У крестьянства были для этого и вполне реальные материальные основания. Якобинская власть действовала жестко. 14 армий нужно было накормить, солдатам надо было каждый день давать хлеб. И революционное правительство не очень-то церемонилось, дабы обеспечить снабжение армии. Не колеблясь, Комитет общественного спасения принял ряд законов о реквизиции зерна, реквизиции хлеба, реквизиции продовольствия, об обязательных поставках, которыми крестьяне должны были обеспечить армию. В свое время академик Н. М. Лукин убедительно показал, как велико было недовольство зажиточных слоев деревни политикой реквизиций и конфискаций, которую проводило революционное правительство*.
* (См. Лукин Н. М. Избранные труды, т. 1. М., 1960,с. 230-340.)
Итак, вслед за буржуазией против якобинского правительства повернуло и зажиточное и в значительной мере среднее крестьянство. Социальная база якобинской диктатуры быстро размывалась.
Эти подспудные процессы, столь ясные и очевидные для нас, людей конца XX века, были менее видны непосредственным участникам революционной борьбы.
X
С начала 1794 года уже более или менее определенно, отчетливо стали обозначаться противоречия в самой якобинской группировке. В марте 1794 года Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон не могли уже обманываться в том, что против революционного правительства возникает нажим с двух сторон. На первый план как будто выдвигалась опасность, шедшая со стороны левых группировок в рядах якобинского блока, которых часто неточно называют эбертистами. Группа эбертистов была лишь частью левого крыла и сама не представляла собой чего-либо однородного. Сам Эбер, редактор весьма популярной газеты "Пер Дюшен", газеты в псевдонародном, полулубочном стиле, был человеком без отчетливых политических воззрений *. Его газета, претендующая на роль политического рупора санкюлотов, с осени 1793 года и по март 1794 года занимала по большинству вопросов крайне левые, чтобы не сказать "левацкие", позиции. Эбер представлял экстремистское крыло якобинского блока. Эбер вместе с Фуше и Шометтом в свое время выступил пропагандистом и организатором так называемой политики дехристианиза-ции. Воздействуя грубыми методами, сторонники этой политики требовали, чтобы священники отказывались от своего сана, закрывали церкви, вели открыто антицерковную политику. Дехристианизаторская политика с ее гонениями на церковнослужителей вызвала недовольство крестьянства: оно осуждало эту политику. Робеспьер с его широким кругозором и ясным пониманием государственных задач вмешался и пресек деятельность де-христианизаторов. Он публично осудил принудительное закрытие церквей и гонения против священников как меры, не отвечающие политике революционного правительства. Авторитет Комитета общественного спасения был так велик, что Эбер, Шометт и Фуше поспешили покаяться в своих прегрешениях, и дехристианизаторская политика была всеми ими осуждена.
* (В библиотеке ИМЛ при ЦК КПСС имеется полный комплект "Pere Duchesne" Эбера.)
Но Эбер под флагом служения санкюлотам, простым людям предлагал и меры, непосредственно затрагивавшие интересы революционной власти. Он призывал к войне, беспощадной, жестокой войне против всех категорий торговцев, не только крупных, но и мелких, против зеленщиков, против женщин, торгующих редиской. В его глазах все они превращались во врагов революции. Это было уже опасным; такое "левачество", говоря терминами наших дней, грозило восстановить против революционной власти мелкую буржуазию, бедный люд.
Критические стрелы газеты Эбера были направлены против Дантона и дантонистов, так называемых снисходительных. Но направляя удары против Дантона, он целил одновременно и в революционное правительство Робеспьера и Сен-Жюста, хотя у Эбера не хватало храбрости сказать это вслух.
В марте 1794 года Эбер и его сторонники предприняли попытку поднять восстание против революционного правительства. В клубе кордельеров, где выступал Эбер, они, завесив траурным покровом Декларацию прав человека и гражданина, призывали к восстанию, хотя и без должной решимости и твердости в голосе. Призывая к восстанию против революционного правительства, к повторению дней 31 мая - 2 июня, Эбер рассчитывал на то, что этот призыв будет поддержан Парижской коммуной. Но Коммуна Парижа во главе с Шометтом отмеячевалась от эбертистов и выступила против этого авантюристического плана. Большинство секций также не поддержало призыв Эбера. Почувствовав, что дело его идет к проигрышу, Эбер стал доказывать, что он не имел в виду восстание против правительства. Тем не менее судьба его была уже решена. 24 марта Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие близкие к эбертистам политические вожди, большей частью левые якобинцы, были арестованы и преданы Революционному трибуналу.
Процесс эбертистов представлял собой новую главу в практике применения революционного террора. До сих пор гильотина действовала только против врагов революции. Процесс эбертистов был первым политическим процессом, в котором террор стал инструментом решения разногласий внутри якобинского блока.
Лично Эбер предстал на процессе в крайне непривлекательном виде. Он был малодушен, труслив, перекладывал вину на других, пытался сам уйти от ответственности и оставил у присутствующих крайне тяжелое впечатление. Но каким бы ни было поведение Эбера, процесс этот принципиально был важен, потому что здесь острие революционного террора было повернуто против членов одной и той же группировки.
Нес ли Робеспьер за это политическую ответственность? Да, конечно. Он знал, на что шел, и сам этот процесс с точки зрения правовой представлял собой явное отклонение от общепринятых норм судопроизводства.
Процесс эбертистов проходил в форме так называемой амальгамы. Суть этого приема, изобретение которого приписывается чаще всего Фукье -Тенвилю, прокурору Революционного трибунала, заключалась в следующем. Лица, действительно виновные в тех или иных политических акциях, соединялись механически с группой других лиц, с которыми в реальной жизни не были связаны. Например, к процессу эбертистов была присоединена группа иностранных шпионов - так они по крайней мере были представлены публике - Проли, Перейра, Дефие и другие. Это и было амальгамой: люди, не имевшие ничего общего с эбертистами, были с ними соединены воедино. В процессе участвовал и прямой полицейский агент, который был разоблачен тем, что в конце остался единственным живым из всех участников процесса*.
* (См. Proces instruit et juge au Tribunal revolutionnaire contro Hebcrt et consorts... P. an II; есть и другие печатные варианты судебного отчета процесса.)
Знал ли обо всех этих деталях, всех этих правовых нарушениях Робеспьер? Об этом трудно судить, он не был, конечно, вездесущ, и собственно аппарат репрессивных органов не был в его руках - он подчинялся Комитету общественной безопасности, но политическую ответственность за процесс эбертистов он нес. Казнь Эбера, Моморо, Ронсена, Венсана была предрешена Комитетом общественного спасения еще до того, как Революционный трибунал вынес им смертный приговор.
Борьба внутри якобинского блока толкала Робеспьера и дальше. Поражение эбертистов, открытых противников дантонистов, привело к резкому усилению группы "снисходительных". Главным противником были все-таки правые силы, а не левые, и удары по группировкам (обоснованные или нет - это дело особое), числящимся левыми, объективно усиливали правых. Внешним выражением этой возросшей роли правого крыла, атакующего революционное правительство, было издание газеты "Старый кордельер" Камилла Демулена. Из номера в номер Камилл Демулен, талантливый Яхурналист, острый полемист, все несдержаннее, все резче нападал на Комитет общественного спасения.
Для Робеспьера психологически вопрос о борьбе против дантонистов осложнялся тем, что он был связан личной дружбой с Камиллом Демуленом. Они были когда-то школьными товарищами, сидели чуть ли не за одной партой и сохраняли добрые отношения до последних дней. В черновых записях Робеспьера, получивших после его смерти известность под названием "Заметки против дантонистов", Максимилиан Робеспьер писал: "Камилл Демулен по причине изменчивости его воображения и по причине его тщеславия был способен стать слепо преданным приверженцем Фабра и Дантона. Таким путем они толкнули его к преступлению; но они привязали его к себе только ложным патриотизмом, который они напустили на себя. Демулен проявил прямоту и республиканизм, пылко порицая в своей газете Мирабо, Лафайета, Барнава и Ламета в то время, когда они были могущественными и известными, и после того, как он раньше искренне хвалил их"*. Эти примечательные строки показывают, что накануне решающих действий Робеспьер сохранял еще прежнее расположение к Демулену.
* (Робеспьер М. Избранные произведения, т. III, с. 144-145.)
Процесс против Дантона и дантонистов, хотя и не имел такой подробной и полной протокольной записи, как процесс эбертистов, освещен достаточно полно в специальной литературе, и о нем можно составить вполне отчетливое представление. Здесь добавлять к известному почти нечего. Но психологически для историка, быть может, более важны, чем сам процесс (исход которого был заранее предрешен), его прелиминарии, конечно не в сфере формальной, юридической. Я имею в виду иное. Как постичь трудно поддающийся точным определениям духовный процесс нисхождения вчерашних друзей - молодых людей, полных жизненной силы, оптимизма, идущей от молодости беспричинной радости,- перехода в ущербный мир отлучения, отчуждения, за которым следует недолгий все убыстряющийся, не остановимый спуск в подземное царство смерти? Из протоколов Якобинского клуба, изданных Альфонсом Оларом, известно, хотя бы в краткой несовершенной записи, как происходило в клубе обсуждение вопроса о последних номерах "Старого кордельера" Камилла Демулена (напомним, что последний номер газеты был конфискован постановлением революционного правительства) и о его редакторе. Следует ли добавлять, что весной 1794 года все участвовавшие в обсуждении Демулена уже вполне отчетливо понимали, что исключение из Якобинского клуба почти автоматически влечет за собой предание Революционному трибуналу?
Пусть простят меня строгие судьи - мои собратья по цеху историков-специалистов, и взыскательные читатели, не любящие каких-либо отклонений от установленных норм, за то, что вместо изложения подтверждаемых точными документами подробностей решающего для судьбы Демулена заседания я пошел несколько иным путем.
Я попытался, опираясь на предоставленное историку право дивинации, нарисовать ту же картину исключения Демулена из Якобинского клуба, но несколько иначе: через восприятие его женой Камилла - Люсиль Демулен.
И вот что у меня получилось.
Когда начало темнеть, Люсиль подошла к окну. Заседание якобинцев могло уже кончиться, и по тому, как он возвращается - по его походке, посадке головы - держал ли он ее высоко поднятой или низко опущенной, по многим другим приметам - она сразу бы поняла, чем же завершился этот решающий день.
Но время шло, сумерки быстро сгущались; на улице становилось все меньше прохожих. Когда стало совсем темно, она прошла к креслу, с ногами свернулась в мягкое сидение и стала прислушиваться.
Как медленно, мучительно шло время. Стояла такая тишина, что можно было расслышать приглушенные шаги редких прохожих по тротуару. Потом опять долгая, ничем не нарушаемая тишина.
Но вот внизу хлопнула дверь, и она услышала его шаги. По этим нетвердым, неровным шагам, медленно поднимающимся по скрипучей лестнице, она поняла: все пропало.
Не надо было ни о чем спрашивать; слова были не нужны. Некоторое время они сидели молча, друг против друга. Потом Камилл не выдержал: сбивчиво, неясно, заикаясь сильнее, чем обычно, он стал рассказывать, как все это произошло.
Его терзали запоздалые, бесполезные само угрызения: надо было выступать совсем иначе, не так; надо было самому переходить в наступление, раскрыть глаза на чудовищность совершаемого. Надо было им крикнуть: "Опомнитесь! Очнитесь! Великий боже! Кого вы хотите исключить? Саму революцию? Самих себя? "Генерального прокурора фонаря", человека, первым бросившего в горячие дни июля 89-го года в Пале-Рояле призыв к штурму Бастилии, редактора "Революций Франции и Брабанта", Камилла Демулена, пять лет воплощавшего революцию? Демулена нельзя исключать, не поднимая руку на саму революцию, не перечеркивая все совершенное ею..."
Вот если бы он так сказал, они бы остановились. И Максимилиан, Максимилиан, столько раз бросавший на него быстрые, косые, как бы внутренне смятенные взгляды, Максимилиан призвал бы их к порядку: он бы понял, что здесь проходит грань, непреодолимый рубеж. Переступи через эту грань, через пропасть раз, и завтра могущественная и всевозрастающая сила лавины всех увлечет, всех затянет вниз, в бездонную пучину.
Но эти неотразимые в своей суровой правдивости слова не были произнесены. И теперь ничто не могло изменить неотвратимого, заранее предрешенного хода событий.
И Камилл заплакал - силы его оставили, он больше не мог ни на что надеяться.
И он плакал, плакал громко, всхлипывая, как ребенок, уткнувшись лицом в колени Люсиль. А Люсиль, нежная Люсиль гладила мягкой теплой рукой его взлохмаченные волосы, его мокрое от слез лицо и тихо успокаивала: "Ничего, мой маленький, ничего, все обойдется. Наступит утро, будет светло, все станет на свое место, и мы снова будем счастливы".
Ей и вправду, наверно, казалось, что, когда кончится эта мучительная ночь, когда рассеются ночные тени и вновь наступит ясный, озаренный солнечными лучами день, все само собой вернется к прежнему, и она будет снова слышать не всхлипывания Камилла, а его задорный, поддразнивающий смех.
Могла ли тогда знать Люсиль, что уже брезжущий рассвет будет еще беспощаднее, чем эта ночь, что в один из ближайших дней скатится под ножом гильотины голова Камилла, а еще позже, через месяц, и она сама в белом, нарядном, почти подвенечном платье поднимется на эшафот, чтобы, закрыв глаза, ждать, как избавления от мук, когда на нее опустится нож палача.
Политический процесс против дантонистов был в чем-то существенном отличен от так легко проведенного разгрома группировки эбертистов. Различий было много, Прежде всего группа "снисходительных", как чаще всего именовали группировку Дантона, была в действительности самой влиятельной силой в стране. Независимо от того, какую роль в революционном правительстве или в Конвенте играли единомышленники и сторонники Дантона, они представляли объективно ту классовую силу, мощь которой день ото дня возрастала. Хотел того Дантон или нет, но он становился руководителем тех кругов буржуазии, может быть, даже шире - зажиточных слоев собственников вообще, которые считали, что пора переходить от революционных деклараций, от режима чрезвычайных мер к будничной республике буржуазии, открывающей возможности для реализации практических завоеваний революции. Эта сила возрастала день ото дня, час от часа, она стала богатой, экономически влиятельной и она не хотела больше слушать речи о добродетели, долге перед отечеством, о героизме, священных принципах равенства, о всем том, что противоречило простой и грубой потребности воспользоваться поскорее и полностью, в свое удовольствие материальными благами, приобретенными за это время.
Повторяю еще раз, что в этих строках дано схематическое, если угодно, упрощенное изображение социальных процессов, совершавшихся в то время. Дантон - человек большой личной одаренности, разносторонне талантливый, и не подлежит сомнению, что он представлял себе свои задачи на данном этапе революции отнюдь не так просто, как только что говорилось. Принято считать - и здесь нельзя не согласиться с теми авторами, которые создали немало трудов о знаменитом французском политическом деятеле,- что политическая программа Дантона весной 1794 года требовала смягчения революционного режима, учреждения Комитета милосердия, прекращения террора или значительного ослабления его и постепенного перехода к конституционному республиканскому режиму. Эта характеристика также слишком прямолинейна, но в задачи данного повествования не входит рассмотрение образа Дантона во всей его сложности и противоречивости. Речь идет об ином.
Робеспьер, начиная борьбу против Дантона, отдавал, не мог не отдавать себе отчета в том, что его противником выступает политический деятель, обладающий почти равным с Робеспьером авторитетом. Робеспьер отдавал себе отчет в том, что борьба против Дантона будет труднее, чем против Эбера или какого-нибудь Проли. Робеспьер должен был задуматься и над тем, насколько допустимо применение по отношению к политическим деятелям, имеющим крупнейшие заслуги перед революцией, тех же средств революционного террора, которые применялись против эбертистов. Здесь вновь возникал вопрос о границах допустимости революционного террора. Что значило предать Жоржа Дантона или Камилла Демулена Революционному трибуналу? Это означало отправить их на гильотину. Комитет общественного спасения не для того затевал политический процесс, чтобы открывать дебаты, допускающие любое возможное решение. Приговор был известен раньше, чем начался судебный процесс. Судебный процесс для того и проводился, чтобы повергнуть противника в небытие.
Чтобы психологически объяснить, как человек несомненно честный, в политических помыслах старавшийся всегда оставаться честным перед самим собой, как мог Робеспьер решиться на предание казни Жоржа Дантона и Камилла Демулена или Филиппо и других их друзей, нужно понять систему взглядов Неподкупного.
Робеспьер был убежден в том, что после огромных усилий народа, после ожесточенных сражений и наконец обозначившегося перелома в борьбе с контрреволюцией Республика подходит все ближе к осуществлению своих идеалов. Тот "золотой век", то царство равенства и справедливости, то слияние человеческого общества с великой, всегда цветущей зеленой природой, о котором мечтал много лет последователь Жан-Жака Руссо и которое пытался претворить в жизнь глава революционного правительства Максимилиан Робеспьер, этот идеальный мир, казалось Робеспьеру, был уже недалек. Что было препятствием к достижению этой цели? Раньше этим препятствием были роялисты, аристократы. Вторым эшелоном противников на пути приближения к идеальному строю были фельяны, Лафайеты, Байи, Мунье и иные приверженцы конституционной монархии. Революция их также отбросила и смела со своего пути. Третьим эшелоном были жирондисты - Бриссо, Верньо, Бюзо, Ролан и другие. Народное восстание 31 мая - 2 июля 1793 года сломило власть Жиронды и жирондистов.
После победы над Жирондой существовала недолгое время иллюзия, будто теперь можно сразу же перейти к этому справедливому обществу равенства. Написанный Робеспьером проект конституции 93-го года и принятый Конвентом текст новой конституции Республики доказывали, что у руководителей Горы, у якобинцев, была почти полная уверенность в том, что они близки к достижению этого справедливого, высшего общественного строя.
Жизненная практика разбила эти надежды, опровергла их. Для того чтобы достичь этого общества лучшего мира, нужно было преодолеть еще натиск столь могущественных противников, как феодальная Европа, вся коалиция европейских держав, опиравшаяся на силы внутренней контрреволюции. Противники, обозначившиеся после 2 июня, были во много раз сильнее предшествовавших. Но тот же опыт показал, что и эта, казалось бы, невероятно трудная задача была по плечу якобинцам. Они осуществили невероятное. Нищая, голодная, изолированная Французская республика, сражаясь против всей или почти всей феодальной контрреволюционной Европы, сумела одержать над ней победу. Это было чудом, но к весне 94-го года это чудо стало действительностью, реальностью. В него все поверили, поверили друзья Республики и ее противники. На всех фронтах армии Республики перешли в контрнаступление. Значит, после того как были сломлены эти самые могущественные силы, стоявшие на пути к достижению цели, ничто больше этому не препятствовало. Так логично, так можно было бы думать.
И теперь, когда в представлении Робеспьера уже как бы обозначились контуры близкого лучшего мира, перед ним встали новые препятствия: группа эбертистов, группа дантонистов, новые эшелоны противников революционного движения вперед, всех тех, кто мешает достижению "царства добродетели" - последнего предела к его установлению.
Робеспьер был революционером в самом точном значении этого слова. Он стремился к достижению цели, которой посвятил всю свою жизнь. И когда он пришел к убеждению, что этот справедливый, лучший мир не может быть достигнут без сокрушения эбертистов и дантонистов, вопрос для него был решен.
Перечитывая еще раз "Заметки против дантонистов", мы нигде не обнаруживаем следов его душевных колебаний или каких-либо внутренних сомнений. Выше отмечалось, что в этих заметках нельзя найти ничего враждебного лично к Камиллу Демулену, но к Дантону Робеспьер подходит пристрастно. Он подчеркивает прежде всего его отрицательные черты. Он считает его интриганом, он ищет в его политической биографии преимущественно недостатки. Стоит вспомнить, что было время, когда Робеспьер выступал в защиту Дантона. Еще сравнительно недавно во время встречи с Дантоном он старался найти пути примирения с тем, кто мог бы стать его политическим противником. Эти примирительные ноты по отношению к Дантону полностью исчезают со страниц черновых заметок, заметок, написанных для самого себя. Что же, это лишний раз подтверждает ту версию, которая только что была предложена: Робеспьер для себя самого решил, что необходимо сломить, опрокинуть эту последнюю силу, вставшую на пути к достижению лучшего, справедливого строя.
Непосредственное осуществление разгрома группы дантонистов оказалось труднее, чем предполагал Робеспьер. Дантон отказался - об этом было уже выше сказано - от предоставленной ему возможности бежать. Это было не в его правилах, это противоречило его натуре борца, идущего навстречу опасности. И в этом поведении Дантона, доказывающем его историческое величие, были, вопреки расчетам Робеспьера, и реальные шансы на успех.
Дантон на судебном процессе в Революционном трибунале избрал своей тактикой нападение. На первый чисто формальный вопрос о месте жительства и об имени он отвечал: "Местом моего жительства вскоре будет нирвана, а мое имя вы найдете в пантеоне истории". Он перешел в первой же, практически возможной связной речи к нападкам на своих врагов. Не он должен был защищаться, утверждал Дантон, но его противники. "Пусть покажутся мои обвинители, и я ввергну их в ничтожество,- гремящим голосом возглашал он в переполненном до отказа зале.- Люди моего закала неоценимы, у них на лбу неизгладимые знаки, отмеченные печатью свободы, республиканский гений".
Конечно, это фразеология XVIII века, эпохи революции, но всем стилем своих ответов Дантон показывал, как намерен он вести свою защиту на судебном процессе. Дантон обладал голосом поразительной мощи, в этом он уступал разве лишь Мирабо. Гремящий голос Дантона, доносившийся сквозь распахнутые окна судебного помещения, собрал на улице огромную толпу. Он с таким искусством, с такой силой напора, с такой убежденностью в своей правоте контратаковал своих обвинителей, что симпатии присутствующих в зале и собравшейся на улице толпы народа явно склонялись в его сторону.
Камилл Демулен под влиянием смелой атаки Дантона также перешел в контрнаступление, и обвиняемые по существу превратились в обвинителей. Исход процесса становился совершенно неясным, и Фукье-Тенвиль, убедившись в том, что он не может достичь не только морального, но и юридического превосходства над своими противниками, прервал судебное заседание. Но когда процесс возобновился, исход его по-прежнему оставался неясным. Потребовалось личное вмешательство Сен-Жюста, приехавшего в здание Революционного трибунала и изменившего процедуру судебного следствия. Грубо попирая формальные законы, Фукье-енвиль упростил судебную процедуру: после того как обвиняемые были фактически лишены слова, Камилл Демулен свернул в комок приготовленный им ранее текст речи и швырнул в лицо обвинителя. Он отказался продолжать в условиях грубого попрания законности защиту.
Революционный трибунал, как и можно было ожидать, лишь на третий день заседания сумел вынести решение. 3 апреля 1794 года Революционный трибунал приговорил всех обвиняемых (а обвиняемые были соединены такжо по принципу пресловутой амальгамы) к смертной казни. Власти поторопились привести приговор в исполнение.
4 апреля был вынесен смертный приговор, 5 апреля утром Дантон, Камилл Демулен и другие обвиняемые были в тележке отвезены на Гревскую площадь. Тележка с приговоренными проезжала по улице Сент-Оноре, мимо дома столяра Дюпле, в котором жил Робеспьер. Дантон, который всю дорогу ругался площадными словами, проезжая мимо дома Робеспьера, громко крикнул: "Максимилиан, ты скоро последуешь за мной!"
Перед казнью Дантон продолжал ругаться, а Камилл Демулен плакал. Перед тем как взойти на эшафот, Дантон подошел к Камиллу Демулену и поцеловал его. Палач заявил, что это противоречит закону. "Дурак,- ответил ему Дантон,- ты же не помешаешь нашим головам через минуту поцеловаться в корзине". Известны слова, которые он произнес, поднимаясь на эшафот. Он обратился к палачу и сказал ему: "Подними мою голову и покажи ее народу, она это заслужила".
XI
И вот все противники республики сокрушены. В Комитете общественного спасения был заслушан доклад Революционного трибунала о прошедших процессах, о вынесенных приговорах и об их исполнении. Все враги, стоявшие на пути республики, которых считали главными ее противниками, были повергнуты в прах. Казалось, теперь уже ничто не могло помешать достижению этого близкого и все ускользающего в последний миг, все отодвигающегося куда-то дальше золотого, счастливого века.
10 и 12 июня 1794 года Робеспьер последний раз выступил в Конвенте с политическими речами*. Накануне 10 июня Жорж Огюст Кутон, ближайший друг, единомышленник и товарищ Робеспьера по Комитету общественного спасения, был перевезен в своей коротенькой коляске к трибуне Конвента. У Кутона были парализованы ноги, он не мог сам передвигаться. Кутон выступил с трибуны Конвента с предложением от имени Комитета общественного спасения принять новый закон, развивающий дальнейшие возможности применения революционного террора. Процедура судопроизводства по закону упрощалась. Революционный трибунал приобретал новые, практически неограниченные возможности осуществлять свою карательную деятельность. В соответствии с этим законом предварительный допрос обвиняемых отменялся. Институт защитников обвиняемых подлежал упразднению, а само понятие "враг народа" получило весьма расширительное толкование: при желании его могли направить против лиц неугодных.
* (Робеспьер М. Избранные произведения, т. III, с. 188-195.)
Впервые в практике - и это было доказательством возникших в правительстве разногласий - Комитет общественного спасения представил проект решения Конвенту без предварительного согласования его с Комитетом общественной безопасности, тем Комитетом, на который, собственно, и была возложена задача применения революционного террора. Сам этот факт был косвенным подтверждением того, что Комитет общественного спасения, т. е.
Комитет, непосредственно возглавляемый Робеспьером и являвшийся высшим звеном в системе революционного правительства, не питал большого доверия к Комитету общественной безопасности.
Впервые в практике деятельности революционного правительства предложение, внесенное Кутоном, которого считали столь же всемогущим или почти столь же всемогущим, как и Робеспьера, встретило возражения. Некоторые члены Конвента стали высказывать в осторожной, сдержанной форме возражения против этого декрета. Бурдон из Уазы предложил, не решаясь выступить с открытыми обвинениями, отсрочку окончательного обсуждения этого декрета.
На трибуну взошел Максимилиан Робеспьер. Он настаивал на том, чтобы Конвент не отсрочивал обсуждение внесенного предложения, принял его. Робеспьер был по-прежнему убежден, что этот декрет благодетелен, отвечает интересам революции. В этом же выступлении он говорил: "Изучите этот закон, и с первого взгляда вы увидите, что он не содержит какого-либо постановления, которое заранее не было бы принято всеми друзьями свободы, что в нем нет ни одной статьи, которая не была бы основана на справедливости и разуме, и что каждая из его частей составлена на благо патриотов и на страх аристократии, организующей заговоры против свободы".
Эта речь Робеспьера показывает, что он еще сохранял веру в необходимость применения революционного террора для сокрушения последних противников. Но эта речь не обеспечила еще полного успеха, принятия закона, и 12 июня Робеспьер вторично должен был выступить в поддержку этого закона, встретившего решительные возражения Бурдона из Уазы. Бурдон из Уазы прервал Робеспьера, утверждая, что Робеспьер пытается его обвинить. Робеспьер отвечал: "Я не называл Бурдона по имени. Горе тому, кто сам себя называет!"
Робеспьер настоял на том, чтобы этот декрет был вотирован и утвержден Конвентом. Но с этого времени он практически отказался от поддержки политики революционного террора. Человек действия, а не слов, он должен был понять, что осуществление террора на практике выходит за пределы контроля Комитета общественного спасения. Он послал в провинции человека, внушавшего ему полное личное доверие,- Марка Антуана Жюльена. Ему минуло в то время едва лишь девятнадцать лет. Честный, чистый, бесконечно преданный революции, он был облечен чрезвычайными полномочиями Комитета общественного спасения для проверки того, как осуществляется на практике политика революционного террора.
В Национальном архиве Парижа сохранились письма Жюльена Максимилиану Робеспьеру, Сен-Жюсту, Кутону, Комитету общественного спасения. То, что увидел Жюльен, было ужасающим. Террор превратился в инструмент расправы с неугодными лицами, грабежа, личного обогащения и бесчестных злоупотреблений.
Жюльен был в Бордо и там наблюдал за деятельностью Тальена, проконсула, комиссара Конвента этого богатейшего города Франции. Что там происходило, что делал Тальен? Было нетрудно вскоре узнать, что Тальен, арестовавший и казнивший первоначально много людей, затем дал понять, что за очень крупную сумму можно избежать перемещения в иной мир. И сотни тысяч золотых монет потекли в карманы Тальена. Вместе со своей возлюбленной Терезой Кабарюс, женой маркиза Фонтене, первоначально участвовавшей в театрализованных представлениях в честь свободы почти обнаженной или прикрытой легкой туникой, с фригийским колпачком на голове, а затем умело прибравшей к рукам не чуждого мирских интересов грозного комиссара Конвента, Тальен установил прямые связи с крупнейшими богачами Бордо, и многие из ранее заключенных вскоре обрели свободу.
По приказу Комитета общественного спасения Тальен был отозван из Бордо и должен был отчитаться перед Комитетом общественного спасения.
Почти то же самое происходило в Марселе. Здесь действовали комиссары Конвента Баррас и Фрерон. Когда-то, год назад, Фрерон ходил в учениках Друга народа Жан-Поля Марата. Но с тех пор утекло много воды, и Фрерон давно пришел к убеждению, что реальный чистоган ценнее звонких фраз о справедливости. Баррас и Фрерон осуществляли свою миссию в Марселе с таким бесстыдством и цинизмом, которые трудно было найти в иных больших городах Республики. Они сажали сотни, тысячи людей в тюрьмы, а затем за огромные взятки освобождали заключенных. Фрерон и Баррас занимались прямым казнокрадством.
Жозеф Фуше в Лионе действовал такими же свирепыми методами, Он полагал, что тем больше укрепит свою репутацию преданного революционера, чем беспощаднее будет применять революционный террор. Да и был ли он революционером? Вот в чем вопрос.
Жюльен, проверявший деятельность Фуше в Лионе, увидел в ней лишь цепь преступлений. Фуше был спешно отозван в Париж, чтобы отчитаться перед Комитетом общественного спасения. Изворотливый, гибкий, лживый, он искал прежде всего путей, как достичь расположения Максимилиана Робеспьера. Дабы снискать симпатии Неподкупного, он даже решился на крайние меры - стал ухаживать за сестрой Максимилиана Шарлоттой Робеспьер, надеясь, что, предложив ей брак, он сможет породниться с могущественным Максимилианом и тем самым смягчит его гнев. Максимилан с презреньем отверг все попытки Фуше и, не опускаясь до личного участия, потребовал, чтобы Якобинский клуб исключил Фуше и Тальена из числа своих членов. В ту пору все знали, что исключение из членов Якобинского клуба влечет за собой почти автоматически предание Революционному трибуналу и в конечном счете приводит к гильотине.
Можно предположить с определенностью, что в эти два последних месяца перед своим концом Робеспьер был уверен в пагубности и опасности искажения революционного террора. По злой иронии судьбы все преступления, все действия, осуществляемые его врагами и недругами, записывались на его счет. В ответе в конечном счете был Максимилиан Робеспьер. Во время своих ночных прогулок по безлюдному Парижу, в разговорах со случайными собеседниками он убеждался в том, как клянут Максимилиана Робеспьера за те преступления, те насилия, убийства, произвол, которые совершались именем революции его врагами. Видимо, в эту пору и Начался тот душевный кризис, который все нарастал, становился все сильнее в сознании Робеспьера в последние недели перед его концом.
В речи в Якобинском клубе 5 июля 1794 года Робеспьер говорил: "То, что мы видим каждый день, то, что нельзя скрыть от себя, - это желание унизить и уничтожить Конвент системой террора"*. Он, следовательно, не только отмежевывался, но и прямо осуждал то применение террора, которое, вопреки ему, было сделано из закона 10 июня.
* (Робеспьер М. Избранные произведения, т. III, с. 203. Робеспьер к этому возвращался и в дальнейших частях своей речи 5 июля.)
После трудного, таящего дурные предзнаменования обсуждения в Конвенте закона 10 июня Робеспьер вплоть до 8 термидора уже не выступал на заседаниях этого высшего органа Республики. С начала июля он перестал посещать заседания Комитета общественного спасения вследствие выявившихся разногласий с его большинством. Немногие бумаги, подписанные им в это время, видимо, приносили ему домой, на улицу Сент-Оноре. Имя Робеспьера еще оставалось на фронтоне Республики; его враги намеренно выписывали это имя преувеличенно крупными буквами и всюду, где только можно, подчеркивали его первенство, а Робеспьер уже на деле был в стороне, уже не направлял хода государственной машины и все больше отстранялся даже от участия в повседневных практических делах.
Значит ли это, что Робеспьер уже до термидора потерял всякое влияние, лишился какой-либо поддержки, стал живым анахронизмом?
Нет, конечно.
Народ своим верным инстинктом угадывал чистоту и благородство помыслов Неподкупного. Его бескорыстие, его бедность, его убежденность в своей правоте привлекали к нему простых людей. Что бы ни шептали злопыхатели, его популярность в народе была очень велика.
В глазах французского народа, в глазах всей страны, всей Европы Робеспьер был воплощением самой революции. Камбон, один из его непримиримых противников, с горечью признавался в том, что те, кто хотел лишь свергнуть Робеспьера, на деле "убили республику"*.
* (Цит. по: Bouloiseau M. Robespierre, p. 121.)
Якобинская революционно-демократическая диктатура и ее вождь Робеспьер пользовались поддержкой санкюлотов, плебейства. Правда, политика якобинского правительства в силу присущей ей противоречивости нередко задевала экономические и политические интересы беднейших слоев трудящихся. Это порождало недовольство части беднейших слоев. Колебания некоторых демократических секций Парижа в ночь 9 термидора были причиной временного одобрения термидорианского переворота такими передовыми людьми своего времени, как Гракх Бабеф. Но ведь не случайно Парижская коммуна (представлявшая в классовом отношении те же плебейские слои, что и до весны 1794 года) и ряд секций столицы поднялись против "законного" Конвента, в защиту Робеспьера и его друзей. Не случайно и Гракх Бабеф, очень скоро раскаявшийся в своей ошибочной позиции в дни термидора, позднее, в 1796 году, признавал допущенную им ошибку и называл Робеспьера и Сен-Жюста своими предшественниками *.
* (См. уже цитированное письмо Бабсфа к Бодсону. Espinas. A. La Philosophic sociale du XVIII siecle et la Revolution. Paris, 1898, p. 257-288.)
Трагедия Робеспьера была в том, что бедные люди и он сам, их предводитель, вопреки своим помыслам и желаниям, трудились и сражались на деле не ради общего счастья и блага людей, как они надеялись, а на пользу богатых и что настал час, когда богатые решили взять власть в свои руки.
Примерно в конце июня - в июле для Робеспьера пришла пора прозрения. Он стал понимать, что та перспектива быстрого достижения гармонического строя общего счастья, республики добродетели и справедливости, которую он столько раз рисовал своим соотечественникам, что эта пленительная, воодушевлявшая на подвиги перспектива отодвигается все дальше. Враги, силы зла оказались гораздо могущественнее, чем он ожидал. Уже сражено столько врагов, но и сраженные, как злые духи, оживают и смешиваются с живущими и жалят своими смертоносными жалами Республику.
Максимилиан день ото дня отчетливее, яснее понимал: все идет не так, как ожидали, как хотели, рассчитывали. Его называли диктатором, вершителем судеб Республики, человеком, одним движением бровей решающим будущность страны, городов, тысяч людей. Сен-Жюст показывал ему бумаги, поступающие в бюро полиции Комитета общественного спасения. Боже! Чего только не говорили о всевластии диктатора! Вадье и Амар, почти все члены Комитета общественной безопасности широко распространяли донесения секретных агентов, содержащие брань, клевету, ложь, хулу - все что угодно, против господствующих в Республике "триумвиров".
"Триумвиры"? "Диктаторы"? Это злая насмешка. Робеспьер теперь все явственнее сознавал свое бессилие; он ничего, решительно ничего не мог изменить в ходе событий. Его называют "диктатором", "тираном", "самодержцем", а он лишь щепка, бросаемая из стороны в сторону могучими волнами океана. Незримые, скрытые в тени более могущественные силы направляют ход вещей. Где они? Кто они? Их нигде не видно, но они повсюду. Все приказы, все распоряжения Комитета общественного спасения не достигают цели; их опутывает густая тина косности, тайного саботажа, скрытого сопротивления. Никто не возражает, никто не оспаривает; на словах все согласны, поддакивают, одобряют. А на деле? В реальной действительности, на практике все идет по-иному...
Когда это началось? Впервые ощущение, что рычаги не подчиняются больше движениям руки, пришло весной, тогда, когда они, Комитет, Робеспьер, Сен-Жюст, столкнулись с тайным саботажем, с мелкими возражениями, искусственно создаваемыми затруднениями, проволочкой, нагромождаемыми одно на другое препятствиями осуществлению на практике вантозских декретов. Но тогда это можно было объяснить. То было сопротивление определенной политике - эгалитарной политике революционного правительства, и он, Максимилиан, и Сен-Жюст это отчетливо понимали. Крупные буржуа, собственники, богатые люди не хотели передачи земли неимущим. Они были вообще против уравнительной политики. Почему не прибрать самим богатство к рукам? Почему не умножить свои доходы?
Конечно, тогда уже стало очевидно, что многие в Конвенте, в правительственном аппарате, в Якобинском клубе тоже - увы! - противятся практической реализации вантозских декретов. Это делалось тогда еще с тысячами предосторожностей, с оглядкой по сторонам, незаметно, тихой сапой; все тогда еще боялись железной руки Комитета общественного спасения.
Борьба с эбертистами и дантонистами, политические процессы весны 1794 года заслонили все остальное. О вантозском законодательстве постепенно стали забывать.
А затем, уже летом, когда все противники были повержены, все враги уничтожены, все голоса "против" смолкли, все- в Конвенте, в Коммуне Парижа, в Якобинском клубе - голосовали "за", поддерживали и одобряли политику Комитета, тогда снова напомнила о себе эта незримая, скрытая сила тайного сопротивления.
Сомнений быть не могло. Хуже всего - это обманывать самого себя, закрывать глаза на окружающее, не замечать происходящего рядом. Колло д'Эрбуа - тот может утешать себя и других громогласным бахвальством, повторяемыми сотни раз утверждениями, что революция одерживает победу за победой. С тех пор как он избежал кинжала Амираля и стал почти мучеником за свободу, все представлялось ему в розовом свете.
Пусть. На фронтах солдаты Республики действительно одерживают победы; кто решится это оспорить? Разве армии интервентов не отступают? После Флерюса весь мир должен был признать силу, могущество армий Республики. Теперь военная инициатива прочно перехвачена вооруженными силами революции, и не интервенты, а армии патриотов повсеместно определяют будущий ход военных операций.
Но разве в свете этих побед на фронтах не горестнее сознавать ухудшение положения внутри страны. "О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению. Если клики наглы, если невинность трепещет, это значит, что республика не установлена на прочных основах". Робеспьер это говорил в речи в Якобинском клубе 1 июля 1794 года.
Великая победа под Флерюсом не ослепила его. Не подлежит сомнению - и это, вероятно, самое главное,- что врагов республиканской добродетели, противников революционного правительства становится не меньше, а больше. Они растут как грибы после дождя; они появляются везде, повсюду. Откуда они берутся?
Кто они, эти могущественные враги, преградившие патриотам путь к республике общего счастья, возвещенной конституцией 93-го года? Робеспьер этого времени часто говорит о них, пользуясь абстрактно-этическими терминами. Он говорит о силах зла, о пороке, о преступлении, о коварстве, он говорит об "опасной коалиции из всех пагубных страстей, из всех уязвленных самолюбий, из всех интересов, противоположных общественному интересу"*. Это широкое использование морально-этических категорий вполне в духе общественного мышления XVIII века. Но оно не должно ни заслонить, ни тем более скрыть глубины проникновения мысли Робеспьера в сущность той борьбы, которая потрясла Республику летом 1794 года.
* (Robespierre M. Oeuvres, t. X.)
Конечно, Робеспьер не мог мыслить понятиями наших дней. Но нельзя не поражаться тому, как верно, как близко к истине он подошел, определяя характер тех сил, которые выступали главными противниками революции. Кто они, эти опасные враги патриотов? Робеспьер отвечает: это блок всех враждебных революции сил. У него нет этого термина более позднего времени - "блок". Но он с успехом заменяет его иным, превосходным определением: "лига всех клик". В речи в Якобинском клубе 5 июля он говорит: "Лига всех клик повсюду проводит одну и ту же систему"*. Это система обмана и лжи, лицемерных заверений в своей преданности революции, скрывающих за громкими фразами низкую клевету, грязную интригу, вероломные инсинуации, разжигание братоубийственных страстей.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 200.)
Слуги тиранов, преемники Бриссо, Эберов, Дантонов, они не останавливаются ни перед какими преступлениями. "Они стремились распустить Национальный конвент, уничтожить его путем коррупции... Они пытались развратить общественную нравственность и заглушить благородные чувства любви к свободе и родине, изгнав из Республики здравый смысл, доблесть и гуманность... Наконец, наветы, предательства, пожары, отравления, атеизм, коррупция, голод, убийства - они расточали все преступления. Им остается еще раз убийство, вновь убийство и потом опять убийство!".
И этот великолепный по своей концентрированной энергии обвинительный перечень преступлений врагов Робеспьер завершает неожиданным, исполненным революционной гордости заключением: "Порадуемся же и поблагодарим небо, мы достаточно хорошо послужили отечеству, чтобы нас сочли достойными кинжалов тирании!"*
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 183.)
Но мы уклонились несколько в сторону. В этой объединенной лиге всех клик есть ведущая, направляющая сила. Робеспьер ее отчетливо различал и прямо на нее указывал.
В речи в Якобинском клубе 1 июля, проникнутой горестью и тревогой, в речи, в полный голос возвестившей грозную опасность, нависшую над революцией, Робеспьер назвал ту мятежную группировку, которая объединяет и сплачивает все враждебные Республике силы. Это - "клика снисходительных". "Клика снисходительных смешалась с другими кликами, она является их оплотом, их поддержкой... Эта клика, увеличившаяся за счет остатков всех других клик, соединяет одним звеном всех, кто составлял заговоры с начала революции... она теперь пускает в ход те же средства, которые когда-то употребляли Бриссо, Дантоны, Эберы, Шабо и столько других злодеев"*.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 196-197.)
"Снисходительные", или "умеренные",- это, как известно, прозвище, данное дантонистам. Робеспьер проявил большую проницательность, разглядев в пестром и разнородном блоке охвостье дантонистов как ведущую силу. Это было для него тем труднее, что на первом плане его врагами выступали отнюдь не даытонисты, а противники дантонпстов - будущие "левые термидорианцы": Билло-Варенн, Колло д'Эрбуа, Вадье и другие. У "снисходительных", у дантонистов в это время - после казни Дантона и Демулена - уже не было выдающихся вождей. Но их значение и вес определялись тем, что они были политическим представительством новой, спекулятивной буржуазии, возглавившей буржуазную контрреволюцию.
Робеспьеру в его анализе наступающих на якобинскую диктатуру сил не хватает только классовых определений. Но он так правильно, так точно выявляет в этом пестром конгломерате ведущий ударный отряд, что кажется, эти классовые определения вот-вот сорвутся с его пера. Он называет эту клику "снисходительных" контрреволюционной и подчеркивает, что ее мощь стала уже угрожающей для революции. "Я бы сегодня не выступил против этой клики, если бы она не стала столь могущественной, что пытается ставить помехи действиям правительства"*.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 196.)
Итак, после стольких жертв и усилий, после стольких блистательных побед, после того, как сокрушены и ввергнуты в небытие все могущественные противники, пытавшиеся остановить революцию,- Дантон, Камилл Дему-лен, Делакруа,- после всего этого напоенная кровью почва Франции зарастает чертополохом, и всякая нечисть, воры и убийцы, Фуше и Тальены заносят отравленный кинжал над якобинской Республикой.
В характере Робеспьера не было ничего от Гамлета: ни ослабляющих волю сомнений, ни мучительных колебаний. Он не воскликнул бы: "Ах, бедный Йорик! Я знал его, Горацио..." Он проходил мимо могил друзей и врагов, не оборачиваясь. Он был человеком действия. Правда, с юных лет и до последних дней своей удивительной судьбы Робеспьер оставался верен главной мечте - мечте о золотом веке, о мире добродетели, равенства, справедливости.
Он оставался до конца верным последователем и учеником Жан-Жака и вслед за великим философом разделял его почти наивную, полудетскую неугасимую веру в более справедливый, лучший общественный строй, который близок, возможен, достижим в той же мере, в какой человек близок к окружающей его со всех сторон вечной, прекрасной, зеленой природе. Но в отличие от своего учителя, остававшегося до последних дней мечтателем, Максимилиан, представлявший иное, новое поколение, уже не довольствовался мечтаниями; мечты он претворял в действия - стремительные, напористые, полные неукротимой энергии.
Терроризм Комитета общественного спасения, возглавляемого Максимилианом Робеспьером, и был стремлением якобинских руководителей достичь кратчайшим путем лежащий где-то совсем рядом вечно зеленый, перекликающийся с голосами природы, основанный на "естественных правах" человека мир равенства и справедливости, мир счастья.
Надо лишь проложить к этому лучшему миру дорогу, железной рукой убрать всех стоявших на пути к счастью. Ставшие широко известными, внушавшими такой страх всем, кто имел причины опасаться, слова Робеспьера: "Надо, чтобы наказание было на быстроте преступления" - и выражали динамическую суть этого неукротимого желания проложить народу путь к счастью.
Робеспьер остался таким же и в последние недели своей недолгой жизни. Его по-прежнему нельзя было ни запугать, ни сбить с пути. Выступая 7 прериаля в Конвенте с гневным обличением "сброда честолюбцев, интриганов, болтунов, шарлатанов, плутов... мошенников, иностранных агентов, контрреволюционеров, лицемеров, вставших между французским народом и его представителями с тем, чтобы обмануть одного и оклеветать других...", Робеспьер спокойно добавил: "Говоря эти слова, я оттачиваю против себя кинжалы, но я для этого их и говорю".
К смерти он относился теперь с еще большим пренебрежительным равнодушием, чем раньше; он давно уже свыкся с мыслью о неизбежности насильственного конца. "В паши расчеты и не входило преимущество долгой жизни",- с горькой иронией говорил он 7 прериаля*. Отсюда шла его поразительная неустрашимость, вселявшая леденящий страх в души его противников. "Не во власти тиранов и их слуг лишить меня смелости"**,- презрительно бросил он своим противникам в одном из своих последних выступлений.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 183.)
** (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 199. (речь в Якобинском клубе 1 июня 1794 г.).)
Робеспьер был не из тех людей, которых какой-нибудь Фуше, или Баррас, или кто-либо еще из алчущих крови Шакалов мог бы захватить врасплох. Его зоркий взгляд внимательно следил за обходными маневрами и подземными подкопами противников. Он без труда разгадал нечистую игру Фуше, льстиво искавшего примирения с Неподкупным, и добился его исключения из Якобинского клуба. В распоряжении Робеспьера и Сен-Жюста были сведения о все шире разраставшемся заговоре, о его участниках, вожаках, об их тайных действиях и планах. Он знал, что в этот заговор постепенно втягивалось "охвостье" дантонистов и эбертистов, чем-то обиженные или опасавшиеся заслуженной кары депутаты Конвента, всегда молчавшие депутаты "болота", прямо или косвенно связанные с нуворишами, тайными спекулянтами и торгашами, что нити заговора уходили в подполье - к жирондистам.
XII
Лето 1794 года, как утверждают почти все современники и мемуаристы, было душным и жарким. С раннего утра парило, небо было безоблачным, и только к полудню собирались тучи. Казалось, что скоро разразится гроза, но постепенно тучи рассеивались, небо светлело, освежающий благостный дождь, которого ждали природа и люди, так и не приходил.
Все эти последние месяцы Робеспьер плохо спал. Днем какие-то дела не давали ему возможности задуматься, сосредоточиться. К вечеру он чувствовал себя крайне утомленным. Едва темнело, он быстро засыпал. Но сон был недолгим, и к полуночи он просыпался. В это время к нему и приходили мысли, для которых днем не оставалось свободного времени. Он одевался, как всегда, тщательно, несколько старомодно. Во внешнем облике он неизменно оставался человеком старого мира: напудренный парик, чулки, хорошо отутюженный бант - господин де Робеспьер. Со своим огромным псом Броуном, к которому он как-то особенно привязался в эти последние месяцы, он совершал ночные прогулки по Парижу.
Подражал ли он своему учителю Жан-Жаку Руссо? Повторял ли он в столь неподходящих условиях "прогулки одинокого мечтателя"? Об этом трудно сказать. Ночной Париж был безлюден, но лишь брезжил рассвет, как перед закрытыми дверями мясных лавок и булочных выстраивались длинные очереди, каждый старался прийти как можно раньше, потому что продовольствия не хватало, и оно доставалось только тем, кто ближе всех стоял к закрытым дверям. В 8 утра мясник открывал дверь, он отпускал мясо по установленным ограниченным нормам. Проходил час, и мясная пустела. Никакие законы правительства о твердых ценах, об обязательных нормах продажи продовольствия не могли обеспечить в необходимых размерах Париж. Людям жилось плохо.
Робеспьер, прогуливаясь со своей собакой, подходил иногда к этим очередям, вставал где-нибудь в конце "хвоста" (этот термин уже тогда появился и был известен обитателям столицы) и начинал разговор с окружающими. Все кляли революционное правительство, которое не могло обеспечить население необходимым количество?! продовольствия, жаловались на тяжелую судьбу, ругали "этого Максимилиана Робеспьера", приписывая ему все несчастья, выпавшие на их долю. Максимилиан слушал их со вниманием, иногда задавал вопросы, но в споры не вступал.
Он проходил с Броуном, ни на шаг не отстававшим от хозяина, по пустынным набережным, переходил через Новый мост на правую сторону, иногда присаживался где-нибудь в безлюдном парке Тюильри, где, просыпаясь, начинали щебетать птицы и изредка прохаживались влюбленные. На скамейке в безлюдном парке, ежась от предутренней свежести, благодатной, но недолгой, он размышлял о том, что ждет страну впереди.
Историк не имеет права сочинять, придумывать те мысли, о которых не осталось ни записей, ни памятников. О чем размышлял Максимилиан Робеспьер в этот последний месяц своей жизни во время долгих прогулок по безлюдному ночному или просыпающемуся Парижу? То, о чем он думал, тот диалог, безмолвный, внутренний диалог, который он вел сам с собой, остался неизвестным потомству.
В доме столяра Дюпле отсутствие Максимилиана сразу замечали. Его возлюбленная Элизабет Дюпле, которую все еще называли его невестой, беспокоилась о своем суженом. То была странная любовь, любовь, для которой не оставалось времени. Когда Элизабет спрашивала Максимилиана, когда же наконец они будут жить вместе, когда будет создан домашний очаг, то, о чем мечтает женщина, стремящаяся к установленному веками, традиционному, рассчитанному на долгие годы браку, Максимилиан отвечал: "Подожди немного, совсем недолго, революция скоро победит". И она ждала, ждала хотя бы потому, что у нее не было никакого иного решения, она не могла предложить ничего другого тому, кого она обожала. Она лишь постоянно беспокоилась и издали, стараясь оставаться незамеченной, следила за ним.
Под утро Максимилиан возвращался. Он был утомлен этой долгой ночной прогулкой и на короткое время снова засыпал. Броун лежал у его ног, прислушиваясь к звукам, доносившимся извне.
В исторической литературе с давних пор идет спор о том, чем же определялось это странное поведение Робеспьера в последние два месяца его жизни и особенно в роковые дни и ночи термидора? Почему он медлил, почему не вынимал шпаги из ножен, не наносил разящего удара? Эта медлительность, эти колебания, эта трудно объяснимая скованность действий - что стояло за ними?
К сожалению, споры шли главным образом о действиях Робеспьера 8-9 термидора, оставались нерассмотренными тесно связанные с ними предшествующие шесть недель.
Альфонс Олар и вслед за ним Паризе склонны были видеть главную причину нерешительности Робеспьера в дни 9 термидора в его пиетете к легальности, в преклонении перед законностью. Оказавшись в конфликте с большинством Конвента и с комитетами, Робеспьер потерял правовую опору, конституционные основы для продолжения борьбы*.
* (См. Олар А. Политическая история французской революции. Пер. с франц. М., 1938, с. 601-605; Pariset G. La Revolution, p. 242.)
Матьез возражал против этого объяснения. Он легко разрушал эту логическую конструкцию простым напоминанием об отношении Робеспьера к народным восстаниям, к 14 июля 1789 года, 10 августа 1792 года, 31 мая - 2 июня 1793 года. Ему нетрудно было этими примерами доказать, что Робеспьер вовсе не был законником, рабом легальности. Он опровергал версию Олара и Паризе и весьма убедительным исправлением фактической истории поведения Робеспьера в решающие часы, в ночь с 9 на 10 термидора*. Матьез доказал, что и в последние часы своей жизни Робеспьер остался тем же, кем был,- революционером с головы до ног.
* (Mathiez A. Robespierre a la Commune le 9 Thermidor. - "Etudes sur Robespierre", p. 185-213.)
Но блестяще опровергнув версию Олара о Робеспьере как законнике, приверженце легальности, Матьез неожиданно приходит к той же опровергнутой им концепции. Просчеты и промахи, допущенные Робеспьером 8-9 термидора, он объяснял тем, что Неподкупный ошибался в оценке политического положения. Он не считал возможной коалицию между своими противниками - террористами Горы и умеренными "болота", шедшими до сих пор за ним. Робеспьер, по мнению Матьеза, "сохранил веру в Конвент, и ему не приходило в голову, что он уже не сможет взойти на эту трибуну, где его красноречие столько раз приносило блистательный успех, он не представлял, что его голос может быть заглушён звонком председателя..."*.
* (Ibid., p. 210.)
Но с этим мнением выдающегося знатока французской революции невозможно согласиться. С 24 прериаля по 8 термидора, т. е. в течение полутора месяцев, Робеспьер ни разу не выступал в Конвенте. Почему? Он был болен? Он нигде не выступал вообще? Факты это опровергают. За это же время Робеспьер неоднократно выступал в Якобинском клубе. Следовательно, он вполне сознательно и намеренно избегал одну аудиторию и обращался к другой. Если припомнить колебания и неодобрительное молчание Конвента во время его выступлений 10 и 12 июня, то ответ напрашивается сам собой. Робеспьер не питал больше доверия к большинству Конвента. Он не заблуждался в оценке складывавшегося против него заговора.
Он слышал предостерегающие голоса врагов. Анонимный автор, называвший себя депутатом Конвента, в письме без даты угрожающе спрашивал Робеспьера: "Но сумеешь ли ты предусмотреть, сумеешь ли ты избегнуть удара моей руки или двадцати двух других таких же, как я, решительных Брутов и Сцевол?"
До него доходили и предупреждения друзей. Из родного Арраса Бюиссар, друг его юности, писал: "В течение месяца, с тех пор как я писал тебе, мне кажется, что ты спишь, Максимилиан, и допускаешь, чтобы убивали патриотов"*.
* (Цит пo: Mathiez A. La politique de Robespierre et le 9 Thermidor expliques par Buonarroti. - "Etudes sur Robespierre", p. 268, 279.)
Максимилиан не спал. Он все видел и слышал. Но он не действовал.
Этот человек действия, человек железной воли и неукротимой энергии потерял присущий ему дух действенности. Он не действовал потому, что понял: революция, с которой он связал свою судьбу, не повинуется больше голосу справедливости, совести, заботе о народном благе. Вождь партии равенства, как называл его Буонарроти*, начал убеждаться в том, что после стольких жертв торжествуют не равенство и добродетель, а преступления, пороки, богатство. А ведь он записал впервые дни победы якобинцев: "Наши враги - порочные люди и богачи"**. И вот теперь, год спустя после славного народного восстания 2 июня, эти враги готовятся торжествовать.
* (Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, т. I, с. 87, 160.)
** (Цит. по: Mathiez A. Etudes sur Robespierre, p. 270.)
То состояние оцепенения, в котором находился в последние недели своей жизни Робеспьер, было порождено глубоким, неизлечимым кризисом революции; оно было своеобразным отражением того оцепенения, которое переживала перед своей гибелью сама революция.
В речи в Якобинском клубе 5 июля Робеспьер говорил: "Если трибуна якобинцев с некоторого времени умолкла - это не потому, что им ничего не осталось сказать; глубокое молчание, царящее у них, есть следствие летаргического сна, не позволяющего им открыть глаза на опасности, угрожающие родине"*.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 202.)
Революция была в летаргии, говорил Робеспьер. То же ощущение испытывал его друг и единомышленник Сен-Жюст, когда он записывал примерно в это же время: "Революция оледенела, все ее принципы ослабели, остались лишь красные колпаки на головах интриги" *.
* (Saint-Just. Oeuvres completes, t. II. Paris, 1908, p. 508.)
Робеспьер еще иногда выражает веру в торжество принципов справедливости, но эта мысль приобретает уже совершенно иное значение, чем раньше. Прежде он с уверенностью говорил о близком триумфе великих идеалов революции. Теперь он допускает лишь конечную победу великих принципов революции либо рассматривает ее как альтернативную. "Объявить войну преступлению - это путь к могиле и бессмертию; благоприятствовать преступлению - это путь к трону и к эшафоту",- говорил он в начале прериаля*, когда еще не была потеряна надежда одолеть врагов.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 184.)
Позже его мысли приняли открыто пессимистический характер: "Уж лучше было бы нам вернуться в леса, чем спорить из-за почестей, репутации, богатства; из этой борьбы выйдут лишь тираны и рабы"*.
* (Робеспьер М. Указ. соч., т. III, с. 184.)
8 термидора (26 июля) Робеспьер в переполненном до отказа зале Конвента поднялся на трибуну. Все чувствовали, более того, знали, что этим выступлением начинается решающее сражение между якобинской Республикой и ее врагами.
Но не Робеспьеру принадлежала инициатива этой битвы. Не он выбирал место и время для своего выступления. Он должен был выступить, потому что Конвент, по протесту Дюбуа-Крансе, постановил, чтобы комитеты представили доклад о действиях Робеспьера*. Его появление на трибуне Конвента, где его не видели в течение месяца, было до некоторой степени вынужденным.
* ("Discours prononce par M. Robespierre a la Convention nationale dans la seance du 8 Thermidor do l' an II".)
Историки, анализируя события 8-9 термидора, уделяли большое внимание ошибкам, допущенным Робеспьером в ходе сражения: его обвинения не были персонифицированы, он никого не назвал по именам и тем самым заставил всех депутатов Конвента объединиться против него, он был нерешителен, он не вел наступательной тактики, он не согласовал своего доклада с Сен-Жюстом и Кутоном, он не следил за действиями своих противников и т. д. и т. п.*
* (См., например, Матьез А. Французская революция, т. Ill, с. 194 и след.)
Возможно, что в этих соображениях и есть доля истины. Однако внимательное изучение последних выступлений Робеспьера убеждает в ином: он не намеревался 8-9 термидора дать решающее сражение противникам.
"Не думайте, что я пришел сюда, чтобы предъявить какое-либо обвинение; меня поглощает более важная забота, и я не беру на себя обязанностей других. Существует столько непосредственно угрожающих опасностей, что этот вопрос имеет лишь второстепенное значение"*. Так говорил Робеспьер в начале своей речи.
* (Robespierre M. Discours et rapports, publ. par Ch. Vellay, p. 384.)
Было ли это лишь тактическим приемом, рассчитанным на то, чтобы усыпить бдительность своих противников и завоевать доверие членов Конвента? Вряд ли.
Достаточно сопоставить речь Робеспьера 8 термидора с его выступлениями 22 и 24 прериаля в Конвенте, чтобы увидеть, как резко они отличаются друг от друга. Речи в прериале конкретны, целеустремленны; все их содержание подчинено совершенно ясным задачам, которые ставил перед собой их автор. В речи 8 термидора эта целеустремленность отсутствует; порою становится даже неясно, что, собственно, хочет оратор. Здесь нужны догадки. И по-видимому, когда он говорит, что есть более важные вопросы, чем обвинения виновных, он имеет в виду главный вопрос - о будущности Республики, о судьбах революции.
Если с чем уже сравнивать речь 8 термидора, так это с выступлениями Робеспьера 1789 года. Та же глубокая уверенность в своей правоте, то же равнодушие к тому, как речь будет встречена слушателями. Подобно выступлениям 89 года Робеспьер 8 термидора через головы своих слушателей обращался к иной аудитории. К кому? К французскому народу? К потомству? К будущим поколениям?
Может быть.
Это была речь о величайшей опасности, нависшей над революцией. "Какое значение имеет отступление вооруженных сателлитов королей перед нашими армиями, если мы отступаем перед пороками, разрушающими общественную свободу! Какое значение имеет для нас победа над королями, если мы побеждены пороками, которые приведут нас к тирании!" *
* (Ibid., p. 422.)
Он был человеком со всеми присущими людям страстями и слабостями, и он не мог не сказать о себе: "Они называют меня тираном. Если бы я был им, то они ползали бы у моих ног; я осыпал бы их золотом, я бы обеспечил им право совершать всяческие преступления, и они были бы благодарны мне!" Его речь была проникнута воодушевлением, он говорил почти пророчески: "К тирании приходят с помощью мошенников; к чему приходят те, кто борется с ними? К могиле и к бессмертию"*.
* (Ibid., p. 396-397.)
Робеспьер предупреждал об опасном заговоре, угрожавшем Республике. Его авторитет был еще так велик, он все еще сохранял такое решающее влияние, что эта грозная речь, вселившая смятение и страх в сердца многих присутствовавших в зале, была встречена громом аплодисментов.
Но не было вынесено никакого решения, кроме того, чтобы речь напечатать. Принятое Конвентом предложение разослать речь по коммунам после возражений Билло-Варенна, Бентоболя, Шарлье было отменено. Робеспьеру предложили назвать депутатов, которых он обвинял. Он отказался. Он не предлагал и никакого решения.
Вечером он прочитал эту же речь в Якобинском клубе. Не для якобинцев ли она первоначально предназначалась? Во всяком случае, как это видно из текста речи, она была адресована в большей мере якобинцам, чем депутатам Конвента.
В отличие от Конвента, где речь вслед за аплодисментами встретила возражения, в Якобинском клубе она была принята восторженно. Есть версия, будто Робеспьер назвал ее своим предсмертным завещанием. Якобинцы стоя рукоплескали Неподкупному. "Я выпью с тобою до дна цикуту",- воскликнул знаменитый Давид. Билло-Варенна и Колло д'Эрбуа, пытавшихся возражать, прогнали с трибуны и вытолкали на улицу.
Готовился ли Робеспьер к борьбе, которая должна была завтра возобновиться? Ничто это не подтверждает.
Робеспьер вернулся на улицу Сент-Оноре, в дом Дюпле, где и спал до утра. "Этот сон стоил ему жизни" *,- писал Луи Барту. Но это лишь одно из преувеличений историка. Весь образ действий Робеспьера и даже эта последняя деталь убеждают в том, что он в эти дни не искал решающего сражения, что он от него уклонялся, что его мысли были заняты иным.
* (Barthou Louis. Le Neuf thermidor. Paris, 1926, p. 81.)
О чем он думал? О будущности? О завтрашнем дне? О жизни и смерти? О смерти и бессмертии? Может быть, о неразличимых в сгустившихся сумерках душного июльского вечера красках, цветах кажущегося еще бесконечно далеким и все же неотвратимо грядущего утра?
Мы этого никогда не узнаем.
Робеспьер спал, не просыпаясь, последнюю ночь перед 9 термидором, и Броун дремал у его ног, шевеля во сне ушами, улавливая какие-то доходившие только до него одного настораживающие звуки. А заговорщики всю ночь совещались и разрабатывали план действий. Как шакалы, поджавшие хвост, услышав голос льва, эти еще вчера храбрившиеся наглецы после речи Робеспьера потеряли головы от страха. Баррас, Фрерон, Тальен, Ровер и их сообщники - каждому из них надо было держать ответ за столько преступлений, что их бросало в дрожь от непреодолимого животного страха. Они уже видели нож, занесенный над их головами. Но у них оставалось время, голова с их плеч еще не скатилась. Даже черный список их чудовищных злодеяний и преступлений еще не был предан гласности. Это сделает завтра Сен-Жюст - в том не было сомнений, ведь он знал все,- и тогда их уже ничто не спасет...
Значит... Надо было действовать.
По-видимому, первое презрительное напоминание о трусости и бессилии пустых болтунов пришло со стороны, от женщины. Тереза Кабарюс из парижской женской тюрьмы сумела переслать Тальену записку. Она была краткой и иносказательной. "Мне снился сон" - так начиналась записка. Тереза излагала содержание этого странного сна. Ей снилось, что ее завтра казнят, но что если бы на свете были не плаксивые слюнтяи, а настоящие мужчины, то все еще можно было бы повернуть.
Таково было примерно содержание этой странной, намеренно оскорбительной записки*. Может быть, она первой побудила их к действию. Воры, убийцы, казнокрады, вымогатели, взяточники, грабители, мародеры, составившие состояние на ограблении своих жертв,- они ведь оставались еще (еще! быть может, последний день!) облеченными высоким званием представителей народа, депутатов Национального Конвента. Не было в Республике более высокого звания. Как же не попытаться сыграть на этих козырных картах! Игра шла на головы. Проигравшие должны были расплачиваться своей головой.
* (Она была опубликована Увраром.)
Они сумели отбросить парализовавший их страх. Многоопытные убийцы, в час смертельной опасности они умели действовать. Неизвестно откуда вынырнувший неразговорчивый или уклончивый в ответах Фуше связывал узелки, соединял незримыми нитями, казалось бы, различные, самостоятельные, ничем друг с другом не соединенные действия.
Была установлена полная согласованность с теми, кого называли левыми,- с Колло д'Эрбуа, Билло-Варенном, Бадье, Амаром. Им льстили, перед ними заискивали, их с готовностью пропускали вперед - на первое место.
Сумели найти, соблюдая необходимую осторожность, общий язык или, скажем осторожнее, близость взаимопонимания с такими людьми, как Карно, Барер, Камбон - влиятельнейшими депутатами Конвента.
Теперь заговорщики искали продолжения сражения.
Оно возобновилось утром 9 термидора (27 июля) в переполненном до отказа зале заседаний Конвента. В эти последние дни июля в Париже стояла очень жаркая погода. С утра парило, было душно. И все-таки, несмотря на гнетущую духоту, зал заседаний, хоры были заполнены молчаливо ожидавшими людьми.
На трибуну поднялся Сен-Жюст, спокойный, уверенный. Он начал доклад в холодно-сдержанном тоне: он взошел на эту трибуну, чтобы сорвать маски с заговорщиков, раскрыть все их преступления...
Председательствовал Колло д'Эрбуа. Он был соучастником ночных конспирации и сообщником тайно вызревавшего заговора. Бывший актер по профессии и автор многих трагедий и драм, так и не сохранившихся в театральном репертуаре, он не мог преодолеть тщеславной гордости за ту и в самом деле решающую роль, которую возложила на него в тот день история. Колло д'Эрбуа не знал еще тогда, чем обернется для него самого это запомнившееся на века утро июльского марева, и он старался, старался с неподдельным воодушевлением актера, опьяненного впервые доставшейся ему великой ролью.
Он не дал Сен-Жюсту произнести решающие слова. Заговорщики, действуя по заранее составленному, тщательно подготовленному плану, в обстановке невероятной сумятицы и шума, созданного ими в зале, сменяли один другого на трибуне. Колло д'Эрбуа, лишая Сен-Жюста возможности продолжать доклад, злоупотребляя правами председателя, предоставил трибуну Билло-Варенну, которого сменил Тальен. Забрызганный с ног до головы кровью погубленных им людей, изобличенный в казнокрадстве, взяточничестве, грабежах, этот преступник, уже исключенный из Якобинского клуба, стал говорить не о своих преступлениях, а с наигранным негодованием "возмущаться" тиранией Робеспьера и Сен-Жюста, их приверженностью к терроризму. Заговорщики торопились переложить свои преступления на руководителей революционного правительства. Тщетно Робеспьер добивался слова.
- В последний раз, председатель убийц, я требую слова,- воскликнул Робеспьер, обращаясь к Колло д'Эрбуа. Но тот заглушал его голос колокольчиком. Ночные сообщники ранее всего договорились ни при каких условиях не давать слова ни Сен-Жюсту, ни Робеспьеру.
Сен-Жюст оставался по-прежнему на трибуне. Ведь принадлежавшее ему по праву слово так и не было произнесено; подготовленный им доклад так и не был прочитан; он теребил в руках исписанные им листки. Почему он так легко, без спора допустил, что этот презренный Тальен дерзко узурпировал его, Сен-Жюста, права? Может быть, он ждал, когда и до него дойдет черед? Но к чему такая терпимость?
Мы никогда не узнаем ответы на эти вопросы. С насмешливой, презрительной улыбкой, блуждавшей на его губах, Сен-Жюст следил за этим тщательно подготовленным представлением, за низкопробным фарсом, в котором можно было безошибочно предсказать каждое следующее действие. Сменявшие друг друга на трибуне Билло-Варенн, Вадье, Барер, блуждая вокруг и около, так и не решались произнести главного: у них не хватало для этого храбрости. И лишь когда какой-то ничтожный, никому не ведомый Луше откуда-то сверху, может быть с хор, выкрикнул предложение об аресте Робеспьера, зал на мгновение оцепенел. Стало тихо. Затем заговорщики шумными выкриками, аплодисментами, в обстановке нарастающего хаоса и сумятицы бурно поддержали Луше, Это ведь и была их главная цель.
Колло д'Эрбуа позднее утверждал, что Конвент проголосовал за это предложение. Может быть, это и было так, а может, и нет. Знаменитый № 311 "Монитера", передавший первым рассказ о событиях 9 термидора, не разъясняет эти подробности. Жерар Вальтер пытался позднее сопоставлять свидетельства "Монитера" со сведениями "Курье до л'Эгалите" и другими источниками*, но он был далеко не первым, кто хотел наиболее полно восстановить картину знаменитых исторических событий. Однако в этих событиях и после пего по-прежнему остается много неточного, противоречивого и неясного. Да и имеют ли эти подробности существенное значение?
* ("Moniteur" N 311; G. Walter. Robespierre, v. I. Paris, 1961, p. 462-463.)
К тому же следует признать как нечто вполне достоверное, что "болото", составлявшее значительное большинство членов Конвента и всегда шедшее за теми, кто был сильнее, "болото", еще вчера рукоплескавшее Робеспьеру, 9 термидора, после всего происшедшего, переметнулось на сторону его противников и, если надо было, с легким сердцем голосовало против него.
В этот день основным, определяющим поведение членов Конвента чувством было чувство страха; страх объединял и сплачивал все антиробеспьеристское большинство, так отчетливо определившееся в зале. В этой игре на человеческие головы предложение какого-то Луше было столь единодушно одобрено прежде всего потому, что оно означало, что падут головы не их, не преступников, не их сообщников, не всей этой разбойничьей банды, дрожавшей за то, что придется держать ответ за все злодеяния и преступления, а головы их обвинителей.
Заговорщики хлопали в ладоши, что-то громко выкрикивали. Они не могли скрыть распиравшей их радости, что им удалась эта казавшаяся столь невероятно трудной, почти неосуществимой операция. Пираты, захватившие корабль и отправившие на эшафот тех, кто располагал неопровержимыми доказательствами их преступлений, они ликовали.
Робеспьер-младший, Огюстен, заявил, что, разделяя доблести брата, он хочет разделить и его судьбу. "Я требую обвинительного декрета". Это требование было сразу же удовлетворено. Было принято также решение об аресте Сен-Жюста, Кутона, Леба. Ранее был декретирован также арест Анрио и председателя Революционного трибунала Дюма.
"Республика погибла. Настало царство разбойников",- сказал Робеспьер, спускаясь к решетке Конвента.
Было шесть часов вечера. Председательствующий объявил перерыв заседания до семи часов.
Но в час, когда заговорщики превратились в вершителей судеб Республики, в ее руководителей, в истолкователей воли народа, когда, не скрывая своего ликования, за обильным ужином, за пьянящими бокалами вина они шумно праздновали свою победу,- в этот час их торжества и восторгов произошло непредвиденное.
Прежде всего арестованных, судьбой которых распоряжался Комитет общественной безопасности, оказалось совсем не просто упрятать в тюрьмы. Робеспьера направили в тюрьму Люксембург, но начальник ее, узнав, кого ему направляют в качестве узника, отказался его принять. Заключить Робеспьера в тюрьму? На это его согласия никогда не будет! Робеспьера пришлось отвозить в здание полицейской префектуры. Там его приняли, но со всеми знаками почтительности и величайшего уважения. Нечто сходное происходило и с Кутоном, и с Сеп-Жюстом, и с Леба.
Но главное было не в этом. Народ Парижа, санкюлоты столицы, простые люди плебейских кварталов, солдаты, артиллеристы, когда до них дошли вести о происшедшем, поднялись на защиту Робеспьера в его друзей. Коммуна Парижа, Якобинский клуб, ряд секций объявили незаконными действия заговорщиков, прикрывавшихся именем Конвента, и призвали народ к восстанию. Народ освободил вождей революции, находившихся в разных местах заключения, и перевез их по одному в разное время в здание ратуши - резиденцию Парижской коммуны.
То было народное восстание, возникшее стихийно, без руководителей, без какого-либо плана действий, да его и не могло быть, поскольку оно возникло спонтанно.
В самом ходе этих переломных событий остается много противоречивого, неясного, загадочного, хотя исследователи давно уже пытались восстановить картину по первоисточникам. В распоряжении автора этих строк находится великое множество фотокопий разнообразных документальных материалов, относящихся к событиям 9 термидора, почерпнутых из соответствующих досье Национального архива в Париже*. Однако изучение этих документов не уменьшает, а увеличивает число недоуменных, трудно разрешимых вопросов.
* (Archives Nationales, F7.)
Чаша весов на протяжении всего вечера 9 термидора колебалась, склоняясь то в одну, то в другую сторону.
Было время, когда казалось, что перевес склоняется в пользу восставшего народа. Анрио, которого первоначально арестовали жандармы, был освобожден Коффингалем и начал быстро собирать вооруженные силы. Артиллеристы, Национальная гвардия выступили против мятежников в Конвенте. Военное превосходство было явно на стороне народа. Был момент, когда мятежники считали свое дело проигранным. Во время вечернего заседания Баррасу, получившему полноту полномочий, сообщили, что Коффингаль во главе крупных вооруженных сил движется на Конвент. Коффингаль действительно, опираясь на верные войска, не встречая сопротивления, быстро продвигался вперед. Но в последний момент, вместо того чтобы арестовать уже готовых разбежаться заговорщиков, он повернул в Комитет общественного спасения, занял его, но, не найдя там ни Амара, ни Вадье, стал их искать, а затем приказал войскам возвращаться к площади Ратуши.
Было допущено много ошибок, грубых просчетов, промахов, а главное - терялось время. Флерио-Леско и Пейан в великолепных, с высокими лепными потолками хоромах здания ратуши чувствовали себя уверенно и тратили время на составление воззваний к народу. Но в эти решающие часы истории нужны были не воззвания, не слова, а действия. Тысячи, может быть, десятки тысяч людей - солдат, артиллеристов с орудиями, национальных гвардейцев, санкюлотов, рабочих - стояли на площади перед Ратушей. Они ждали приказов к действию.
Заговорщики не теряли времени. Они отлично поняли, что на карту снова поставлены их головы. Прикрываясь именем Конвента, они провели решение, объявлявшее Робеспьера и его друзей вне закона. Этот разбойничий акт избавлял их от необходимости судить руководителей революционного правительства - от того, чего они боялись больше всего. Самым страшным для них было то, что Робеспьер и Сен-Жюст могут заговорить и расскажут о них правду.
Они разослали своих эмиссаров во все буржуазные секции Парижа, во все верные им воинские части.
Примерно часов в одиннадцать вечера в зале Ратуши собрались Максимилиан Робеспьер, его младший брат, Сен-Жюст, Леба, Анрио; позже других был привезен Кутон. Революционные вожди снова были на свободе, все вместе, среди друзей, и на площади их защищал народ.
Могло казаться, что чаши весов снова круто переместились и что мировая история готова совершить один из самых головокружительных виражей.
Робеспьер некоторое время, видимо, был в каком-то оцепенении. Но когда он увидел, что народ верным инстинктом понял, на чьей стороне правда, он ввязался в борьбу, он готов был все начинать сначала.
Писали, будто в последние часы Робеспьера томили сомнения по поводу легальности, законности его действий. Матьез неопровержимо доказал необоснованность этих утверждений *. Несколько революционных вождей, объявленных вне закона Конвентом и освобожденных восставшим народом, они, а не "законный" Конвент представляли революцию в эти последние ее часы. Когда надо было подписать воззвание к армии, возник вопрос, от чьего имени его следует подписывать. "От имени Конвента, разве он не всегда там, где мы?" - воскликнул Кутон. "Нет,- ответил Робеспьер после короткого размышления,- лучше будет: от имени французского народа". В последние часы своей жизни они остались теми же, кем были,- великими революционерами, свободными от всяких формально-правовых догм, ставящими имя французского народа выше самых авторитетных конституционных учреждений.
* (Mathiez A. Robespierre a la Commune le 9 thermidor. - "Etudes sur Robespierre", p. 184-213. Совпадающие показания Мюрона, Жавуа и Дюлака приведены Матьезом (Ibid., p. 207-208))
Но было уже поздно. Вследствие предательства одна из частей контрреволюционных войск проникла в здание ратуши и ворвалась в зал, где заседали вожди революции. Жандарм Мерда выстрелом из пистолета раздробил челюсть Робеспьеру. Можно ли было продолжать сопротивление? По-видимому, оно становилось бессмысленным. Так это и было понято присутствующими в зале. Леба застрелился. Робеспьер-младший выбросился из окна, но не погиб, а лишь разбился. Все было кончено.
Один лишь Сен-Жюст был задумчиво равнодушен, безразличен. Его взгляд случайно упал на украшавшую один из великолепных залов Ратуши мраморную доску с высеченным на ней золотыми буквами текстом Декларации прав человека. Прочитав ее первые строки (он знал наизусть и все следующие), он произнес так же задумчиво: "А ведь все-таки это создал я..."
Всех увели. Залы Ратуши опустели. Поздно ночью разразилась давно надвигавшаяся гроза.
На следующий день без суда Робеспьер и его товарищи, живые и мертвые, всего двадцать два человека, были гильотинированы на Гревской площади. 11 термидора, еще через день, также без суда и следствия были казнены еще семьдесят один человек - их обвиняли в том, что они составляли окружение Робеспьера.
Все было завершено. Республика была побеждена. Занавес опустился. Римская трагедия была закончена.
Теперь начиналось новое представление, начиналась новая пьеса - прозаическая, будничная история господства дельцов, спекулянтов, казнокрадов, воров, убийц, проституток, фальшивомонетчиков, охотников за чужими миллионами, превратившихся в важных сановных господ, возглавивших новое общество и даже пытавшихся преподносить порою какие-то уроки морали.
И вот наше повествование подходит к концу. Да простит меня читатель, если, вместо того чтобы дать заключение, обоснованные и тщательно аргументированные выводы, суммирующие итоги тех исторических процессов, о которых шла речь в книге, я позволю себе сослаться на некоторые сугубо личные воспоминания.
Я родился и вырос в Ленинграде. Там похоронены моя мать, мой дед, мои прадеды. И хотя уже много десятков лет я не живу в городе, где родился, я продолжаю чувствовать свою кровную связь с ним и время от времени возвращаюсь "в свой знакомый до слез" город, где все напоминает мне о давно минувшей поре детства и юности.
Как и многие люди старшего поколения, ленинградцы, я, приезжая в этот город, живу в гостинице, и телефон в моем номере молчит: в этом городе не осталось никого из моих родных, из моих близких, не сохранились и кладбища, где были похоронены мои родители, мои предки. Всякий раз, когда я приезжаю в родные места, я еду на Пискаревское кладбище и подолгу простаиваю, глядя на длинные ряды безымянных могильных памятников, обозначенных лишь годами: 1941, 1942, 1943, 1944. Под этими надгробиями и лежат все те, с кем связаны были мои детские годы, моя судьба.
Бывая в Ленинграде, я брожу по улицам своего далекого детства и юности. И здесь, проходя мимо этих не меняющихся на протяжении десятилетий каменных, хорошо знакомых мне домов, я возвращаюсь мысленно к минувшим годам, к навсегда ушедшему времени.
Когда я нахожусь в Ленинграде, странное дело,- память возвращает меня к событиям первого года революции. В августе 1918 года, несколько месяцев спустя после победы Великого Октября, в Москве в Александровском саду, расположенном у стен Кремля, состоялось большое торжество. Во исполнение подписанного В. И. Лениным декрета Совета Народных Комиссаров об установлении памятников выдающимся революционным деятелям прошлого здесь был торжественно открыт памятник вождю Великой французской революции Максимилиану Робеспьеру.
Памятник деятелю Великой французской революции был одним из первых, поставленных в столице молодой Советской Республики. В те первые месяцы Советской власти, когда уже началась гражданская война, когда Республика испытывала острейшую нужду во всем: в хлебе, топливе, металле, оружии, у сражающегося с врагами народа не было ни бронзы, ни мрамора, чтобы создать из этих благородных материалов памятник великому якобинцу. Не было и времени, чтобы соорудить монумент на века.
Прошло несколько лет, и скульптурное изображение Робеспьера, сделанное из непрочного материала, начало разрушаться. Прошло недолгое время, и памятник разрушился. Сегодня уже не найти ни памятника, ни того места, где он стоял.
Об этом первом столь недолговечном памятнике Робеспьеру в Александровском саду в Москве я вспоминаю каждый раз, когда бываю в Ленинграде. И вот почему.
Я уже говорил о том, что, приезжая в город моего детства и юности, я хожу по местам, которые мне особенно дороги. Если сегодня вы приедете в Ленинград - колыбель русской революции, если вы пройдете по Литейному проспекту до конца, до гранитных берегов Невы, и повернете направо, вы увидите на синей эмали большую, бросающуюся в глаза вывеску: "Набережная Робеспьера".
Набережная Робеспьера... Это название было дано ей впервые дни революции, вскоре после Октябрьского вооруженного восстания; оно сохранилось и в наши дни.
Каждый раз, когда я приезжаю в свой город, я хожу по набережной Робеспьера, вдоль гранитных берегов Невы. Этот путь можете проделать и Вы, читатель. Вы не пожалеете о том. И если с набережной Робеспьера Вы взглянете прямо на ширь Невы, то на противоположной ее стороне Вы увидите четко вырисовывающиеся очертания скульптурного изображения Владимира Ильича Ленина на броневике, простирающего руку вперед.
Взгляните на эту синюю эмаль вывески: "Набережная Робеспьера" - и на возвышающийся вдали, по ту сторону Невы, памятник Ленину.
И в этом поразительном сочетании имен, запечатленных в камне и металле революционного города, в молчаливой перекличке столь различных эпох Вы услышите голос истории, почувствуете живую связь времен, начала и концы, соединяющие незримыми нитями далекий XVIII век и его героев с новым миром, рожденным в XX столетии.
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'