ПОИСК:
НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Иногда ночью, когда созвездие Медведицы укатится за острые пики кипарисов, в театр заходит Мнесилох: ему у богатых людей не спится.
Я боюсь проспать его появление, поэтому мои глаза сами открываются, заслышав постукиванье его палки. Я разлепляю глаза, таращу их в небо. Сквозь прорезь в потолке я вижу крупные звезды, которые переливаются, как россыпь углей, припудренная лунной пылью.
А Мнесилох постукивает, негромко кашляет, вздыхает, вполголоса призывает милость богов. Я знаю, что он неторопливо пробирается между скамей, спускается к самому почетному первому ряду. Там он садится в высокое каменное кресло жреца Диониса и ждет, не проснусь ли я.
Но я непременно проснусь! Бегу босиком по шершавым, еще теплым от дневного солнца плитам, забираюсь на резную ручку кресла. Мнесилох накрывает меня полой своего плаща, чтобы мне не повредила предутренняя сырость. Он приносит мне от стола богачей пироги, засахаренные маслины, печенье — целое пиршество! Он припасает мне также самые свежие новости:
— Мидяне, или персы, как их иначе называют, уже перешли Геллеспонт. Сегодня один моряк рассказывал: волны разрушили гигантский мост, построенный по приказу персидского царя. Царь разгневался, велел заковать море в цепи и высечь его плетьми. И вот кинули в море кандалы, а волны секли плеткой во исполнение царского приказа.
Мне стало смешно — великое, могучее, безбрежное море заковать в кандалы! Стремительные, мощные, пенистые волны стегать плеткой! Разве эти волны — рабы, такие же бессильные, как мы?
Мнесилох, однако, не улыбнулся. Он завернул в тряпицу остатки ужина, сказал задумчиво:
— Боги гневаются на светлый город Паллады. Новый царь мидян Ксеркс поклялся, говорят, город наш испепелить. Сна лишился — Марафон ему как шпилька в перине.
Сколько раз по моей просьбе Мнесилох повторял рассказ о Марафоне! О том, как после разгрома сухопутного войска мидян их флот повернул на юг, надеясь быстро обогнуть мыс Суний и врасплох захватить беззащитные Афины. Тогда афиняне покинули марафонское поле и, построившись по филам и фратриям, бегом пустились На защиту родного города.
Мнесилох во время рассказа возбуждался, вскакивал, размахивал единственной рукой, описывая, как гоплиты с тяжелым топотом пробегали через поселки,
сопровождаемые лаем собак и воплями женщин; как девушки бежали за ними с кувшинами в руках, предлагая на бегу утолить жажду; как в лица воинам плескали холодной водой, чтобы хоть как-нибудь облегчить тяжесть бега в доспехах по жаре.
Мнесилох со вздохом добавлял, что лично он этого не видел, потому что метался в горячке у врачей. Но все же, заканчивая рассказ, описывал, как наутро персидский флот подошел к афинскому берегу и как мидяне увидели лес копий и стены щитов.
Ах, зачем я не свободный! Я сейчас ушел бы в войско, попросился бы хоть лошадей чистить, хоть носить чей-нибудь тяжелый щит.
А Мнесилох тем временем ворчит:
— Хуже всего, что нет единогласия: один туда, другой сюда, третий совсем никуда. Легкомыслие какое-то... Слышал, какую песенку распевают в харчевнях и винных подвальчиках? «Будем пить и веселиться и не думать о войне с мидянами...» А там по мосту через Геллеспонт день и ночь идут полчища персидского царя!
Он горестно качал головой, а мне становилось жутко и весело. Там, далеко, в варварском краю, по деревянным настилам вышагивают, важно колыхаясь, мохнатые верблюды, катятся боевые колесницы, проносится легкокрылая аравийская конница. Скоро война придвинется и к стенам Афин. Мне представится случай совершить подвиг, и я непременно стану свободным.
А Мнесилоха все гнетут мрачные мысли. Днем ему приходится ломать свои комедии, а ночью он со мной отводит душу: я слушатель бессловесный.
— Главное — единства нет. Спартанцы воду мутят. Правда, они и при Марафоне нам не помогли, все медлили с помощью, выжидали кто кого. Тогда зато афинский народ был един, и единый вождь был — Мильтиад. Теперь и вождей много и раздоров хватает. Мнения единого нет: Фемистокл, а с ним диакрии, бедные жители гор, и паралии, моряки и торговцы, требуют создать сильный флот. Аристид и педиэи — землевладельцы — кричат: вооружить всех от мала до велика, драться за каждый клочок пашни, за каждый поворот дороги. Фемистокл возражает: вот, говорит, вас и растерзают на этих клочках, количеством задавят. А народное собрание заседает без перерыва: делит сено между львами и ждет, когда на лопухе дыня вырастет!
Чтобы отвлечь старика от грустных мыслей, я устраиваю ему спектакль. Ведь я присутствую при всех репетициях и представлениях и отлично запоминаю слова, реплики, куплеты, мелодии. Звонким голосом (хотя и не очень громко, чтобы не услышал кто чужой) я нараспев декламирую пролог и выхожу на орхестру. Брезжит далекая заря, и Мнесилох может видеть, как я копирую важную походку и плавные телодвижения актеров. Мнесилох смеется. Тогда я один за целый хор пою парод — выходную песню хора. За актера я произношу монологи — эписодии и сам вместо хора отвечаю стасимами — стихотворными куплетами.
— Эй, эй, погоди! Здесь ты неправильно делаешь. Вот так надо, вот так! — Мнесилох вылезает на орхестру и, прихрамывая, показывает мне позы и походку трагических актеров.
Наконец я торжественно пою эксод — заключительные строфы трагедии, и Мнесилох мне подпевает дребезжащим голоском.
— Актер, ты настоящий актер! — восторгается он. — Гляди-ка, теленок вырос и может слопать льва!
Я кричу ему в ответ, что не хочу быть актером, хочу быть моряком или воином.
Однажды наше бурное веселье разбудило жреца Килика. Взяв посох и поеживаясь от утреннего холодка, он вышел к театру, чтобы посмотреть, что за шум.
— Ах ты, сын греха, раб собачий! — накинулся он на меня. — Да пожрут тебя гарпии, проклятый! Что ты расхаживаешь, как бойцовый петух, как ты смеешь осквернять театр криками и безобразием?!
Он уже замахнулся на меня, но Мнесилох подоспел и отвел его посох.
— Не тронь мальчика, жрец. Ребенок ли, звереныш ли, сын ли раба — все дети.
Килик спрятал посох за спину, спрятал руки под хламиду, спрятал глаза в приятной улыбке. Спасибо Мнесилоху, знает он волшебное слово на этого дракона!
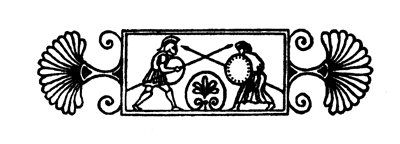
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'