ПОИСК:
ГЛАВА 15. ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ
Философская мысль поздней Византии отразила всю сложность социально-экономической и политической жизни империи в XIII—XV вв. Интерес к философии в это время был характерен для широких слоев византийской интеллигенции, как светской, так и духовной. Образованные византийцы привыкли гордиться перед «варварами» своей непревзойденной культурой, покоящейся на античном наследии. Но после Четвертого крестового похода, когда военное могущество феодального Запада стало очевидным, когда Византия, опустошенная и разграбленная, стала уступать Западу во внешней культуре, византийской гордости был нанесен сильный удар.
После 1204 г., когда от мечтаний о мировой державе не осталось и следа, преклонение перед далеким эллинским прошлым заменило прежнюю гордость Византии, нового Рима. Византийские интеллигенты стали считать себя уже не римлянами, а эллинами, на современность пытались смотреть глазами афинянина времен Перикла1. Тысячелетней истории Византии как бы не существует для философов XIV—XV вв. Свои сочинения они писали аттическим наречием V—IV вв. до нашей эры. Даже месяцы историки стали обозначать древнегреческими названиями.
Первый этап развития поздневизантийской философии, примерно до 1340 г.,2 характеризуется еще сохранявшимся у образованных византийцев представлением об их превосходстве над латинянами Запада в сфере религии и философской мысли. Наиболее видными философами в это время были Никифор Влеммид, Феодор Метохит, Никифор Хумн. Начинал свою деятельность тогда и Никифор Григора. Эти философы стремились соединить данные. добытые античными науками, в единое целое. Это было время увлечения астрономией, физикой. Научным центром была в этот период более свободная от экономического влияния Запада Фессалоника.
Но новые удары по политическому и экономическому положению Византии во второй половине XIV в. круто изменили направление общественной мысли. Развитие поздневизантийской философии с 40-х годов XIV в. до начала 20-х годов XV в.3 характеризуется распространением упадочнических настроений, выразившихся в безразличии к окружающему, в стремлении к религиозно-созерцательной жизни и к мистике (исихазм). Передовые мыслящие люди Византии, очевидно, сознавали серьезную опасность распространения таких настроений и вступили в отчаянную полемику с исихазмом. Философы стали богословами по преимуществу. Философско-богословские споры раскололи на два лагеря крупнейших мыслителей поздней Византии. Прогрессивные для того времени тенденции защищали Варлаам, Акиндин, Никифор Григора, братья Димитрий и Прохор Кидонисы; на противоположной стороне находились вождь исихастов Григорий Палама, Николай Кавасила, Феофил. Исихасты стали победителями, поскольку их победе способствовали иноземная интервенция и разгром народного движения 40-х годов XIV в. Передовых людей Византии постигло глубокое разочарование. К тому же оказалось, что представление о превосходстве Византии над Западом в сфере философии основывалось только на незнании Запада. С конца третьей четверти XIV в. глубокий пессимизм сменил прежнюю византийскую гордость4. Например, Димитрий Кидонис, вначале высокомерно третировавший «варваров-латинян», которые не понимали «эллинского духа», в 50-х годах убедился, что латиняне понимали этот «дух» чуть ли не лучше, чем сами византийцы. Да и богословие на Западе находилось в это время на более высоком уровне развития, чем в Византии. В кругах интеллигенции зрели сомнения в правоте православия, наблюдался переход в католичество.
С третьего десятилетия XV в. началась последняя стадия развития поздневизантийской философии. Гибель Византии казалась уже неминуемой. Защитники греческой самобытности уже не видели внутри Византийского государства и общества живительных сил и считали единственным спасением обращение к эллинству. Выявилось стремление к полному отрицанию всех византийских традиций. Центром этого движения стала Мистра. Философы стремились к воскрешению «эллинского духа», эллинской доблести, эллинской науки и мировоззрения; в мудрости Платона, который создал учение о «наилучшем обществе», хотели обрести спасение.
Что же понимали в поздней Византии под словом «философия»? Вначале, как и ранее, господствовало самое широкое его понимание. «Философией» называли занятие науками вообще, не проводя между ними четкой грани. По мнению Метохита, стремление к мудрости, созерцательная жизнь (βιοζυεωρητιχοζ)5 являлись условием для подлинного овладения философией и единственным путем к блаженству. Под созерцательной жизнью Метохит, однако, не понимал полного отхода от окружающей действительности, он отнюдь не считал идеалом монашество. Философия в его понимании — простая сумма знаний, добытых всеми науками.
Некоторые работы Метохита, Варлаама, Григоры представляют собой своеобразные энциклопедии. Метохит сделал попытку представить всю сумму знаний в своем труде Miscellanea. Он против того, чтобы изучать науки раздельно, не углубляясь в их единство. Его эрудиция огромна: он цитирует более 70 греческих источников. На первый план он ставит науку о космосе — астрономию, а также математику, которая обусловила возможность развития астрономии6.
Другою ветвью философии считалась физика. Математика (с астрономией) ставилась выше физики, ибо она более точна и безгранична по объему. Физика, напротив, ограничена, так как зависит от чувственных восприятий 7.
Предметом философии как таковой Метохит считал знание о сущем, о природе, о материи, о движении во всем его многообразии, о сути всего существующего8. Иными словами, крупнейшие умы того времени понимали под философией мировоззрение вообще, заключающееся в постижении истины во всей ее глубине, т. е. в понимании природы в целом. Однако настоящие знания об этом, как полагали, можно было получить только от изучения античных авторов, прежде всего — Аристотеля и Платона. Таким образом, и Метохит в известной мере — античный мыслитель, говорящий не о «боге-создателе», а о «природе и ее творениях». Но он все-таки делает оговорку: «С другой стороны, под влиянием христианских догматов мы отвергаем многие из их (античных философов. — М. С.) положений, которые противоречат истине»9.
Занятием философией в это время считали вообще любое, даже беспочвенное, умствование по любому поводу, если только рассуждения основывались на цитатах из сочинений античных авторов, а также отцов церкви и библии. Философия смыкается с риторикой10. На этом этапе философские споры разгорались главным образом вокруг античных авторов. Главной формой изучения философии было переложение и сличение взглядов античных философов. Философия не выходила за рамки комментирования античной науки. Но и это давалось с трудом. Даже Феодор Метохит, по-видимому, плохо понял «Метафизику» Аристотеля, считая ее наиболее слабым произведением античного ученого.

Григорий Палама. Икона. XV в. Гос. музей изобраз. искусств. Москва
Историк Пахимер в начале XIV в. дал изложение учения Аристотеля; монах Софоний изложил учение о категориях и трактаты «О душе», «О сне»; митрополит Лев Магенасий написал комментарий к «Органону» Аристотеля. Мануилу (Максиму) Оловолу принадлежат переводы с замечаниями к «Аналитике».
Молодой Григора писал (до 1330 г.) Иосифу Синопскому, крупному и уважаемому философу того времени, что ожидает от него работу по комментированию Аристотеля. Григора советовал доказать, что нет противоречий между Птолемеем и Аристотелем, хотя по Птолемею сфер меньше, чем по Аристотелю, Евдоксу и Калиппу11. Использовались в XIV в. и старинные комментарии к Аристотелю (Порфирия и Филопона).
Античная философия подавляла византийцев своим величием, глубиной и противоречивостью. Посвятив всю свою жизнь постижению античных авторов, они приходили к убеждению, что ничего нового создать в философии невозможно. У Феодора Метохита звучит нота сожаления, что у древних все уже имеется в готовом виде12. Нет и внимательной аудитории: образованные люди презрительно относятся к современной философии, они знают, что все великое, прекрасное — позади, что нынешняя ученость — мнимая и бездеятельная.
Византийским философам не было чуждо стремление видеть в философии практическую ценность. Опираясь на античные воззрения, они считали, что философия должна быть на практике опорой императорской власти. Согласно Никифору Влеммиду, если император находится под влиянием философа, монархия становится идеальной, ибо правление государством требует научно-философского подхода к проблемам внутренней и внешней политики13.
Однако в целом именно комментированием (главным образом Аристотеля и отчасти Платона) и ограничивались при изучении философии древних. Наличие противоречий между этими мыслителями не приводило к самостоятельным суждениям и оценкам. Изучающие просто отдавали предпочтение тому или иному философу, не выдвигая собственной аргументации. Впрочем, иногда древние авторы подвергались и критике. Например, Метохит отмечал, что Аристотель недостаточно знал математику. Разумеется, при этом не принималось во внимание, что Аристотель в IV в. до н. э. не мог знать того, что знал Птолемей во II в. н. э., но в Византии изучали античную философию не в ее развитии, а как единую противоречивую систему.
Однако опасность остаться на стадии комментирования авторитетов прошлого миновала византийскую философию. Действительность вынудила интеллигенцию проявить интерес к проблемам современности. Периоду комментирования древних философов в 40-х годах XIV в. пришел конец. Началась острая идеологическая борьба. В конечном счете ее направления определялись социально-экономическими, этническими и политическими противоречиями. Феодальной знати, пользовавшейся всеми привилегиями, были выгодны распространение религиозной мистики и отход масс от социальной борьбы. В сфере философии начался период самостоятельных дерзаний, выразившихся в яростной богословской и догматической борьбе. Как и во время христологических и иконоборческих споров, философ не мог остаться в стороне от полемики вокруг исихазма. Если бы философия не вмешивалась в богословие, она осталась бы в условиях того времени оторванной от жизни ученостью. Нерасторжимая связь средневековой идеалистической философии с богословием была совершенно естественной.
В ходе богословских споров были поставлены новые вопросы, ответить на которые в духе античной философии было невозможно. Появилось неверие в универсальность античного знания. Ученым Византии пришлось обратиться к изучению западной философии, к католическому богословию, что привело к серьезным последствиям. Углубление в проблемы теологии двояко отразилось на судьбах философии: с одной стороны, оно будило самостоятельную мысль, с другой — еще более отвлекало ее от эмпирических, конкретных исследований.
Полемика была ожесточенной. Она протекала в сложных условиях социальной, экономической и политической борьбы. Полыхала гражданская война, перманентно дебатировался вопрос об унии православной и католической церквей, предпринимались попытки союза с Западом, вплотную надвигалась турецкая угроза. Формы идейной борьбы обострялись еще более в силу резких различий в приемах аргументации враждующих сторон. Философы, связанные с античными концепциями, опирались на законы формальной логики. Их противники — представители апофатического богословия, напротив, с презрением отвергали эти законы (см. ниже).
Самостоятельная философская мысль в Византии развивалась несколько в ином направлении, чем на Западе. Проблема противопоставления веры и знания, а также проблема номинализма или реализма в византийской философии не являлись ведущими. Всякие попытки отождествить византийское мышление с западным противоречат действительному ходу развития византийской философии XIII—XV вв.
Идеологический континуитет античности в Византии, хотя и ослабевал временами, никогда не прерывался, как на Западе. Но в разные периоды акцент переносился на различные философские проблемы. Если в античной философии центральной проблемой был вопрос о первопричинах происхождения и характере всех сущностей, то в Византии XIII—XV вв. в основе философского анализа лежала проблема абсолютной причинности развития общественного бытия, т. е. проблема закономерности и случайности.
Вместе с античным наследием в византийское мышление перешло представление о роли случайности (судьбы — τυχη), которая управляет человеческими делами. Наряду с нею античные авторы говорили о еще более таинственной ειμαρμενη, αναγχη, т. е. о необходимости, предопределенности в природе и человеческом обществе, о непонятной, но осознаваемой закономерности. В связи с представлением об этой могучей, непонятной для людей силе и возникла концепция о цикличном развитии человеческого общества, о переходе руководящей роли от одного народа к другому (Полибий).
В среде византийской интеллигенции проявлялась тенденция соединить понятие «тихи» с христианским положением о воле божьей» о высшем промысле, предопределении. Само понятие «бог», таким образом, получало особый смысл: это не трансцендентный и совершенно не познаваемый бог, а осознанная, объективная, не зависящая от человеческой воли, персонифицированная закономерность. Стремление познать эту таинственную силу, управляющую человечеством, было естественным для византийской философии в отличие от западной.
Усиленное внимание к проблеме случайности и закономерности было вполне понятным в условиях поздней Византии: с одной стороны, не исчезало традиционное представление, согласно которому именно Византии, Новому Риму, суждено владеть ойкуменой, с другой стороны, в XIII—XV вв. происходил неотвратимый упадок Византийской империи. Идеи детерминизма в византийской философии вполне соответствовали ходу византийской истории: нередко планы, которые строили правящие круги Византии, терпели провал в результате обстоятельств, не зависевших от внутреннего развития страны. Не последнее место среди этих обстоятельств принадлежит перманентным нападениям варварских племен, которые не прекращались в течение всей истории Византии и влияли на сохранение представления о «судьбе», действующей наперекор желаниям человеческим. «Тихи» связывали и с общей закономерностью, и со случайностями в быту человека.
Meтохит, так же как и прочие византийцы, отличал «тихи»-случайность (иногда счастье, иногда несчастье для человечества) от грозной ειμαρμενη — неотвратимой закономерности, которая управляет миром, решая все не так, как этого хотят люди14. Случай-«тихи» Метохит считает подобным потаскушке, изменчивой и непостоянной.
Григора, впрочем, не признает понятия «тихи», однако говорит о наличии в мире всеобщей обусловленности, о целенаправленном движении в природе, управляющем всем существующим, т. е. об η15.
Неуклонное ослабление Византии в XIV в. стали объяснять действием неумолимого рока. Становилось ясно, что Византийской империи суждено пасть так же, как пали в свое время монархии древности. Возродилась теория циклизма, которой историки Халкокондил, Сфрандзи и Критовул и объясняли падение Византии в 1453 г.16 Упадок Византии является, по мнению Метохита, результатом действия «законов природы». Идею вечности Рима Метохит уже не высказывает. Этот философ признавал наличие общего закона для всего материального мира: после появления чего-либо следует его развитие, а после достижения совершенства начинается движение в обратном направлении — по пути к небытию. Эта теория, естественно, могла быть распространена и на представление о судьбах государства17. Г. Бек расценивает мировоззрение Метохита как свидетельство о конце «византийского самосознания»18.
Наиболее прямолинейно в духе абсолютного детерминизма высказывался Георгий Гемист Плифон в своих трактатах περι ψυχηζ περι ειμαρμευηζ19. Византийское государство все более слабело, а на Пелопоннесе, напротив, возникли некоторые надежды на возрождение, на эллинское объединение. Отсюда и оптимистические прогнозы Плифона: Византии предопределено пасть, но зато суждено возродиться подлинному эллинскому миру. Ειμαρμευη представлялась Плифону неотвратимой закономерностью, всевластной, универсальной, всеобщей обреченностью. Плифон приходит к этой теории, исходя из двух аксиом: 1) ничто не происходит само собой, все имеет причину; 2) если имеется причина, то она и двигает данное явление со всей необходимостью20.
Согласно Плифону, случайность возникает в результате неожиданных для человека взаимодействующих причинностей, одинаково неотвратимых; ничего таинственного в случайности нет. Для примера он приводит случайность — совпадение с Олимпийскими играми солнечного затмения: затмения происходят по своему закону, Олимпийские игры — до своему установлению. Это закономерное, доступное вычислению совпадение, которое объясняется различной периодичностью обоих явлений21.
Плифон полемизирует с Аристотелем, считая, что основным пороком системы Аристотеля является ограничение действия рока (ειμαρμενη). Согласно Аристотелю, «судьба» касается действия одной единичной причины, но не явлений, в целом. Плифон поэтому замечает, что Аристотель дает волю божественному промыслу и в то же время ограничивает его22. Плифон считал Аристотеля неспособным к пониманию великого единства, вечно растворимого во множестве явлений23. И разум, и религия, по мнению Плифона, требуют признания представления о могуществе и неотвратимости ειμαρμενη. Всякое признание самой возможности чего-то случайного Плифон считает материализмом и атеизмом. Непризнание Аристотелем детерминизма привело якобы к тому, что арабские и западные философы — комментаторы Аристотеля пришли к атеизму.
Признание абсолютного детерминизма, естественно, вело к постановке вопроса о свободе человека в его деятельности. В Византии в то время не были осведомлены о взглядах Августина, поэтому доводы Плифона следует рассматривать как вполне самостоятельные изыскания в духе учения Платона. По мнению Плифона, существование всеобщей необходимости (ειμαρμενη, αναγχη) вовсе не означает порабощение человека, ибо понятие «свобода» вовсе не есть противоположность понятию «необходимость». Человек может вполне свободно учитывать необходимость и действовать в соответствии с ней. Противоположное свободе (ελευδερια) понятие есть δουλεια (рабство), а не αναγχη (необходимость).
Человек, согласно Плифону, свободен не потому, что отсутствуют силы, господствующие над ним, а потому, что он имеет душу24. Душа испытывает воздействие высшего начала, она подчиняется внешним обстоятельствам, но действие внутренних и внешних причин на сознание человека дает ему возможность поступать применительно к этим причинам. Высшая необходимость — это бог. Бог — это αναγχη, но он не имеет ничего общего с δουλεια — порабощением человека.
Человек свободен и счастлив, когда следует глубоким побуждениям божественной необходимости. Но если он действует наперекор необходимости, он превращается в раба низших импульсов души, «Ни один человек не желает себе зла и несчастья: несчастным он становится, если у него нет целей действия, обусловленных глубокими причинами, и тогда он делается рабом... Ни один человек не желает быть плохим, но он против своего желания вредит себе, поступая против необходимости»25. Свободно действовать по внушению неясных детерминированных сил — и есть подлинная свобода для человека.
В первый период поздневизантийской философии представление о непонятной для людей ειμαρμηνη соединялось со стремлением постичь до конца причину вещей, абсолютную истину, которую и христианские вероучители, и философы древности обычно называли «богом». Способен ли ум человеческий ее постигнуть? Величие античного прошлого и неверие в собственные возможности приводили к мысли, что сущность вещей можно постигнуть не путем экспериментального изучения окружающего мира, а лишь при глубоком проникновении в мудрость античной философии. При этом сумма античных знаний в XIII в. рассматривалась как некое единство, несмотря на наличие острых противоречий в положениях античных философов. Влеммид стремился воссоздать стройную систему «знания», эклектически соединяя несоединимое и проходя мимо противоречий между Платоном и Аристотелем.
Столь характерная для всемирноисторического развития борьба материализма и идеализма почти не затронула византийской философии того времени. Философское мышление в основном питалось противоречиями между идеалистами — Аристотелем и Платоном, а не противоречиями между ними и материалистами Демокритом и Эпикуром, Учение Лукреция византийцам вовсе не было известно. Однако даже расхождения между Аристотелем и Платоном разбирались не в плане главной проблемы — о мире идей, а по вопросам суммы знаний.
Тем не менее и в Византии была поднята проблема номинализма и реализма. Влеммид считал, что Аристотель прав, говоря о реальности конкретных вещей, но что и Платон не ошибается, так как в боге-творце заключается глубокий смысл всех сотворенных конкретных вещей еще до сотворения мира, предвечно26. Таким образом, подобное механическое соединение противоположных идей означало скорее не решение проблемы, а желание отойти от нее. Спор об Аристотеле и Платоне достиг особой остроты во время идеологической распри Метохита и Хумна.
Наиболее рьяным поклонником Аристотеля был Никифор Хумн. Он читал и комментировал его труды для своих друзей. Картину мироздания он представлял по Аристотелю27. Он также считал, что идеи не существуют вне тел28, и старался опровергнуть теорию Платона. Однако нельзя считать Хумна аристотеликом, а его противника Метохита платоником. Оба они иногда возвеличивали обоих античных философов, а иногда находили недостатки и у того, и у другого. Хумн писал: «Безумием было бы не признавать величия Платона и Аристотеля, но нельзя считать, что их положения являются оракулом, что нельзя ни развивать, ни продолжать их идеи»29.
Острым был спор о взглядах Аристотеля и Платона в области астрономии. Метохит был прав, отдавая предпочтение Птолемею, Хумн же придерживался Платона (оба при этом упускали из виду, что ни Платон, ни Аристотель не могли знать того, что знал Птолемей во II в. н. э.). Григора тоже был поклонником Аристотеля, тогда как основная теория Платона об идеях казалась ему странной. «Неужели..., — говорил он, — человеческие законы являются только тенью, игрушкой бога, как это изображает Платон?»30
Теория Платона о мире идей считалась в Византии XIV в. абсурдной, несмотря на благоговение перед ним, как великим философом. Прежде чем перейти к признанию этой теории Платона, византийской интеллигенции в 40-х годах XIV в. пришлось окунуться в богословские споры.
В представлениях людей XIV—XV вв. богословие являл ось наукой, более важной, чем точные науки того времени. Если признать, что наличие бога, управляющего миром, является незыблемым фактом, то, разумеется, познание этого начала являлось обязательным и даже решающим для человеческого разума. Церковь учила, что бог непостижим, т. е. его нельзя познать обычными чувствами, но она внушала, что именно разум подтверждает наличие бога и что, напротив, атеизм свидетельствует об отсутствии разума. Однако в то же время церковь провозглашала, что «мудрость мира сего является безумием перед богом».

Рождество Иоанна Предтечи. Икона. XV в. Государственный Эрмитаж
В богословии существовало, таким образом, два направления — катафатическое и апофатическое. Катафатическое богословие исходило из понятия бога как абсолютизированного бытия и сущности явлений. Из понятия бытия, как из понятия единицы в математике, аналитически выводились все положения о сущности божьей. Основой для катафатического богословия являлись формальная логика и те элементы учения Аристотеля, которые уже в ранневизантийское время были приспособлены отцами церкви (в особенности Филопоном) к нуждам богословия.
Наукообразие импонировало катафатическому богословию, которое, однако, в XIII—XIV вв. в целом не выходило за рамки учения Дамаскина и Фотия — наиболее ярких представителей этого направления в богословии. Вполне понятным было предпочтение, оказываемое церковью Аристотелю перед Платоном, учение которого представляло призрачным и существующий мир, и плоть, и, следовательно, вочеловечение Христа. На Западе теологическая доктрина, построенная на строгих логических умозаключениях, стала господствующей намного раньше и в XIII в. нашла завершение в «Сумме богословия» Фомы Аквинского. Отношение западной церкви к Аристотелю изменилось уже во время крестовых походов, когда умственный кругозор латинян значительно расширился. Авторитет церкви терял свой прежний престиж, вера оказалась недостаточной, возникла необходимость подкрепить ее знанием, откровение — наукой, которую представляли тогда именно труды Аристотеля, более или менее знакомого западной интеллигенции после усиления общения с арабами и греками. Из запретного и даже проклятого церковью язычника во второй половине XIII в. Аристотель стал чем-то в роде христианского пророка31. Вера должна быть осознана разумом, и богословы взялись за изучение Аристотеля, провозгласив, наконец, что между религией и Аристотелем нет противоречия — богословие искало опоры в идеалистической философии.
Естественно, что и в Византии приверженцы логического построения догматики и рационалистического осознания божества в конце концов стали склоняться к католическому богословию (Варлаам, Кидонисы), так как знакомство с трудами западных теологов, основанными на законах логики, давало им преимущество в дискуссиях. Однако углубление в учение Аристотеля таило опасность. Тезис катафатического богословия — раскрытие свойств бога из понятия совершенного бытия — неминуемо приводил тех, кто шел в своих построениях до логического конца, к номиналистическому выводу, что бог является понятием человеческого разума, результатом нашего умствования. Знакомство не с интерпретированным теологами, а с подлинным учением Аристотеля в изложении Аверроэса и Авиценны, известных многим западным номиналистам, серьезно поколебало наукообразные догмы богословия и логически вело к атеизму.
Именно это обстоятельство заставило некоторых богословов все более определенно предпочитать Платона Аристотелю. Система Аристотеля стала возбуждать массу сомнений, тогда как Платон давал четкое учение о существовании бога и бессмертии души. Система Платона могла стать основой частной и общественной морали, но она содержала странное для здравого рассудка отрицание материальности мира. При опоре на нее был неизбежен переход к символизму в богословии. Все догматы и евангельские повествования приходилось трактовать символически. Этот символизм, разумеется, не был приемлем для развития катафатического богословия. Он стал стимулом для перехода к мистике, и в тесной связи с нею начало развиваться апофатическое богословие.
Мистика не исчезала во все периоды существования Византии, но особенно широкое распространение она получила в эпоху расцвета феодальных институтов, в XI—XIV вв. Мистика основана на представлении о религии как непосредственном единении человеческой сущности с сущностью божества, с таинственной силой, не познаваемой разумом и недоступной для обычного чувственного восприятия. Но эта связь может быть ощущаема человеком в результате особого напряжения воли и при наличии особых харисматических условий.

Портрет Вкладчика, Великого Примикирия Иоанна. Деталь иконы Христос-Пантократор». 1363 г. Государственный Эрмитаж
Мистическое единение с богом не требовало никаких богословских знаний. Афонские монахи в XI в. изобрели особую «технику» соединения с божеством. «Заперши двери твоей кельи,— учили эти мистики,— сядь в углу ее, отвлеки мысль свою от всего земного, телесного и скоропреходящего. Потом склони подбородок твой на грудь свою и устреми чувственное и душевное око свое на пупок твой; далее, сожми обе ноздри твои так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами то место сердца, где сосредоточены все способности души. Сначала ты ничего не увидишь сквозь тело свое; но, когда проведешь в таком положении день и ночь, тогда — о, чудо! — увидишь то, чего никогда не видал, — увидишь, что вокруг сердца распространяется божественный свет»32. Подобное состояние экстаза и принимали за единение с богом, за его познание. Это монашеское течение, широко распространившееся в XIV в., получило название исихазма33. Теоретическое обоснование познания бога путем подобного мистического единения с ним и является предметом апофатического богословия. Бог есть всеобщая истина, познать ее нельзя ни путем абстрактного мышления, ни при помощи заключений на основе наблюдений видимого мира34. Никакие тонкости философии не могут привести к общению с богом, но поскольку бог создал человека по своему образу и подобию, постольку сам человек — целый мир, в котором отразилось все мироздание. Познание бога состоит в самоуглублении. Согласно апофатическому богословию, в акте познания нет познающего субъекта и познаваемого объекта. Познание состоит в единении познаваемого с познающим, объективного с субъективным. Апофатическое богословие отвергает формально-логическое мышление в применении к познанию.
Главой апофатического богословия в середине XIV в. был Григорий Палама (1295/6—1359), монах-мистик, получивший хорошее философское образование, великолепно владевший терминологией Аристотеля и Платона, знакомый с мистикой Евагрия Понтийского, Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова, Григория Кипрского и своего духовного отца — мистика Феолепта Филадельфийского35. Паламе было известно и мистическое учение богомильской секты36.
До XIV в. мистическая богословская литература почти не оказывала влияния на православную официальную догматику и не была предметом обсуждения на соборах. Поводом к вторжению в политическую и общественную жизнь Византии мистических учений послужило выступление калабрийского монаха Варлаама (ок. 1290—1350). Приехав в Византию, Варлаам первоначально выступал против католического богословия (1333), но потом, ознакомившись с методами «познания бога» исихастов, он пришел в негодование, признав исихазм дискредитирующей православие ересью. Варлаам назвал исихазм «пуподушием», так как, по его мнению, исихасты считали пуп местом пребывания души. Варлаам пришел к выводу, что католицизм больше заботится о внедрении в народном сознании христианских начал, чем православные иерархи, весьма прохладно относящиеся к делу обучения народа в духе христианства, благодаря чему массы греков совершенно не знают официального вероучения. Католичество, по мнению Варлаама, глубже проникает в массы, на Западе христианская религия крепнет и распространяется, тогда как на Востоке множество людей легко и без сопротивления переходит в мусульманство37.
Варлаам обвинял исихастов в том, что, согласно их доктрине, для спасения, в сущности, вовсе не нужно священное писание, что бога можно видеть, как обыкновенную вещь, что для этого нужно только прибегнуть к определенным, чисто чувственным приемам38.
В защиту исихазма в 1338 г. выступил Григорий Палама со своей сложной теорией, которую он разработал, но отнюдь не систематически изложил в ряде своих «поучений». Основу теории Паламы составляет тезис о том, что познание истины не может быть результатом научного мышления. Истина одновременно и непознаваема, и познаваема: она не познаваема человеческой мудростью, но познаваема путем деификации — соединения с божеством. Между творцом и творением существует общность — единство, которое может быть осознано путем особого напряжения воли и вследствие благодати. Благочестивым людям удается добиться этого единства с богом. Таким образом, человек находит в себе то, чего он не может найти в результате чувственного опыта и вне себя. Сущность бога непознаваема — бог полностью трансцендентен. Но поскольку сотворение человека произошло в результате действия божественной, несотворенной, вечной энергии, то человек может познать бога через осознание действия этой энергии. Согласно Паламе, бога нельзя рассматривать только как сущность, он имеет нечто, не относящееся к сущности39, Субстанция, бытие бога непостижимо, но бог превратился бы в пустое понятие, если бы мы не могли познавать его через его энергию40. Энергия бога не сотворена, но безначально связана с сущностью бога (это положение вызвало недоумение и критику со стороны врагов Паламы: ведь этот тезис означает признание двоебожия — бог и несотворенная, столь же безначальная энергия). Палама считал, что его учение об энергии, которую можно воспринять чувствами, содержит основное доказательство существования бога: кто не признает учения об энергии бога, тот фактически не признает и существования бога. Учению Паламы присуща, таким образом, антиномия: с одной стороны, он говорит об абсолютной трансцендентности («внемирности») бога, а с другой стороны, — о его самооткровении через энергию, о его реальном, чувственно познаваемом присутствии в мире.
Признание деификации способствовало осмыслению проблемы конечного и бесконечного, проводилась мысль о связи конечного, материального (т. е. «плоти» человеческой) с бесконечной, безначальной энергией бога и, наоборот, — о превращении нематериальной энергии в реально видимый, так называемый «Фаворский свет» (сияние, которое, согласно евангелию, видели апостолы у горы Фавор и которое, по убеждению исихастов, можно увидеть в моменты экстаза). По учению Паламы, это действительный, хотя и не материальный, свет, но не галлюцинация, как утверждал Варлаам.
Палама абстрагировал естество познающего ума от деятельности ума. В соответствии со взглядами Псевдо-Дионисия он говорил о круговом действии ума: ум наблюдает окружающий мир, а затем возвращается в себя. Этим он отличается от зрения: глаза видят мир, но не видят себя41. Далее, ум восходит от себя к богу путем особой «умной молитвы» и обратно возвращается в себя вслед за познанием бога. Самым трудным для человека является длительное пребывание в этом состоянии ума, но именно оно дает и возможность деификации.
Конечно, деификация, согласно Паламе, не есть механическое соединение с богом, доступное каждому. Божественная энергия дается как благодать лишь благочестивым, святым42.
Палама не принадлежал к тем мистикам, которые говорили о греховности «плоти», об отказе от всего материального, как это проповедовали приверженцы дуалистических ересей — павликиане, массалиане, богомилы. Ум, по учению Паламы, во время восхождения к богу не должен находиться вне тела. «Если мы не заключим ума внутрь тела, — говорил он, — то каким образом сосредоточим его в себе самом?»43. Поэтому дается наивный совет: вместе с задержкой дыхания удерживать в своем теле ум.
Палама проповедовал, что для деификации нужна благодать божия, которая снисходит через энергию. Он вводит понятие «синергии» (συνεργεια), которая является соединением усилий человека и божественной энергии. Для деификации необходимо благочестие: отношение добрых дел человека и божественной благодати он поясняет при помощи аналогии со светильником, в котором маслом являются добрые дела, а светом — божественная анергия как ниспосланная благодать44. Из всех византийских богословов Палама наиболее близок к Августину.
Благодать, полученная через таинство крещения, является только потенцией, которую человек развивает покаянием, отрешением от земных помыслов и сосредоточением на небесных, смятением, сокрушением, аскетизмом (воздержанием от излишнего сна, пищи, неги) и в особенности — анахоретством, которое есть «пристань мудрости». Учение Паламы — это идеология оторванного от общества монаха-пустынника, который враждебен всему новому в мире, в том числе и пробивавшим дорогу гуманистическим веяниям45-46.
Сам того не желая, своими антиномиями Палама показал несовместимость веры (мистики) и знания. Он выступил против эллинизма, стремясь будто бы спасти православных от перехода к язычеству, но фактически он разрушил всякую связь церковной идеологии с патриотическим и социальным движением. Асоциальный характер паламизма несомненен.
Учение Паламы, развивавшего идею о возможности спасения через единение индивидуума с богом и фактически отвергавшего мысль о необходимости тесной связи между людьми, стало идеологией реакции в Византии. Не случайно даже такие далекие от богословия люди, как Григора, вынуждены были со всей страстностью вступить в борьбу с паламизмом.
Система деификации человека — сложная концепция, свидетельствовавшая о беспомощности старого общества. Ее развивали приверженцы стагнации и застоя, предпочитавшие полностью отойти от мира, хотя бы ценой гибели народности и государства, чем отказаться от привычного мировоззрения и старого уклада общества. Деификация Паламы ориентирована на асоциальную личность, оторванную и изолированную от общества.
Палама и его сторонники примыкали к политически реакционному лагерю, поддерживая Кантакузина (см. выше). В отношении к турецкой опасности Палама фактически занял капитулянтскую позицию: он не призывал народ к противодействию захватчикам — напротив, он прославлял их веротерпимость47. Силы прогресса потерпели поражение в гражданской войне в результате интервенции иноземцев и слабости городского сословия. Несмотря на протесты ряда иерархов, богословие Паламы на соборе 1351 г. было признано каноническим, а противники Паламы (Варлаам, Акиндин, Григора) подверглись анафеме. Мистике был дан широкий простор в православии. Среди новых мистиков особенно выделялся Николай Кавасила48.
Победа мистики имела роковое значение для судеб балканских народов, разрозненных и враждующих между собой в период нарастания турецкой опасности. В тот исторический момент, когда объединявшее балканские страны православие могло быть использовано для организации общего отпора греков, сербов, болгар и влахов нашествию турок под знаменем священной войны, церковь выступила с асоциальными учениями, парализующими волю к сопротивлению. Иерархи страстно спорили об унии церквей и о возможной помощи папы в организации крестового похода против турок, тогда как возглавляемая этими иерархами церковь ничего не предпринимала для сплочения самого населения в общей борьбе.
Трагизм ситуации осознали противники мистики. Они продолжали вести отчаянную полемику с исихастами, которая в то время была, в сущности, борьбой сугубо политической. Антипаламиты стали заимствовать аргументацию у западных богословов. Во второй половине XIV в. были переведены с латинского основные сочинения Фомы Аквинского, но дело завершилось, в конце концов, лишь принятием католичества рядом выдающихся лиц империи. Если паламизм был по существу идеологией смирения перед турецкой опасностью, то антипаламизм фактически санкционировал политику уступок итальянскому торговому капиталу. Антипаламиты, правда, возбуждали некоторые надежды на помощь папы и итальянских городских республик.
Однако ненависть к «латинским» эксплуататорам была в Византии столь велика, что всякое обращение за поддержкой на Запад, обусловленное капитуляцией перед папством, считалось изменой.
Единственная и последняя попытка создать идеологическую доктрину, целью которой являлось сохранение самобытности и духовной независимости греческого народа, была предпринята на Пелопоннесе в среде интеллигенции, группировавшейся при дворе деспота в Мистре. Наличие местного самоуправления в городах Пелопоннеса создавало некоторые благоприятные условия для утверждения этого идейного течения. Оно развивалось в форме движения интеллигентов за воскрешение древнего «эллинского духа», гуманистического протеста против христианства с его асоциальной и лишенной чувства народности мистикой и выразилось в стремлении полностью воспринять древнеэллинскую идеологию. Наиболее выдающимся представителем движения за возрождение эллинизма был Георгий Гемист Плифон, сначала юрист в Мистре, потом прославленный философ и советник морейского деспота. Его основной труд Νομων συγγραφη к сожалению, сохранился только в отрывках (см. выше)49.
Философские взгляды Плифона отличает рационализм50 и независимость мышления, выделяющие его из среды прочих византийских философов. Камариот обвинял Плифона в том, что тот считал себя одного способным рассуждать относительно смысла всех вещей, что он сделал себя законодателем и следовал лишь своим законам51. Плифон выступил как сторонник философского учения Платона в его чистом виде. Споры Хумна и Метохита, а в особенности антиномии Паламы и мистиков в значительной степени подорвали авторитет Аристотеля и расчистили дорогу учению Платона об идеях. В западной философии и в католическом богословии Аристотель господствовал полностью. Фома Аквинский считал, что платоновские идеи непримиримы с христианством, так как бог создал реальный, а не идеальный (Платонов) мир. Авиценна смягчил это противоречие, утверждая, что платоновские «идеи» существуют не в себе, а в нашем интеллекте. Плифон предпринял попытку создать цельное мировоззрение на основе теории Платона об идеях в чистом виде. Плифон вступил в острую полемику с Аристотелем. Как известно, Аристотель в «Метафизике» (I, 9), называя теорию Платона об идеях пустыми словами и литературными метафорами, призывает обращаться не к идеям, а к реальным вещам.
Аристотель говорит о том, что, принимая теорию идей, нельзя объяснить появление реальных вещей. Для этого нужно, чтобы было то, что производит движение. Плифон возражал на это: ни один предмет, произведенный человеком, не возникает без идей, которые имеются у того, кто создает предметы. Вещи, произведенные природой, должны иметь причину, не низшую, не равную, а превосходящую их.
Согласно Плифону, не конкретное, единичное и, следовательно, в чем-то ограниченное, есть подлинная сущность, а только абстрактное, общее, которое является не умозаключением, а подлинной реальностью. Отношения между конкретными предметами природы и их идеями и составляют, по мнению Плифона, основу античной философии.
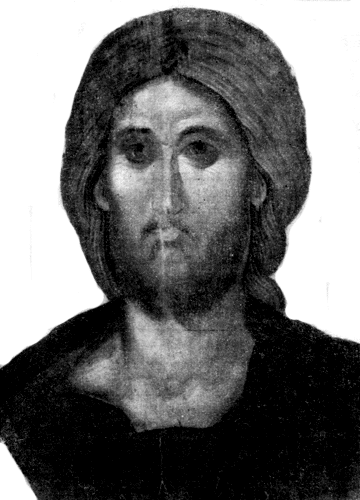
Христос-Пантократор. Икона. Деталь. 1363 г. Государственный Эрмитаж.
Идеи, по учению этого философа, делятся на две категории: к первой принадлежат те, которые являются основой для вечных сущностей и способны сами действовать и творить; ко второй — те, которые нуждаются для существования в материи, доставляемой им Солнцем52. Но когда эти идеи получат материальное начало, они самостоятельно влияют на вещи, на материю. Главное обвинение Плифона против Аристотеля состоит в том, что тот, признавая вечность Вселенной, не дает объяснения ее движущей причине. При этом на деле Плифон выступает не столько против Аристотеля, сколько против средневековых его истолкователей, которые рассматривали Аристотеля как сторонника существования единого бога — создателя всех конкретных вещей в мире. Плифон решительно отрицал справедливость такого понимания учения Аристотеля. Поскольку этот древний философ считает и небо и сущности вечными и стоит на позициях плюрализма, его учение не дает монистического представления о мироздании. Поэтому неправы те, кто видит в Аристотеле проповедника христианского бога.
Плифон, таким образом, опровергает то понимание Аристотеля, которое стало традиционным среди церковных авторов — как византийских, так и западных. Плифон — первый ученый, начавший очищать теории Аристотеля и Платона от тех искажений, которые были следствием приспособлений античной философии к христианскому богословию. В этом состоит заслуга Плифона; он первый осуществил научный подход к изучению античной философии53 (см. т. II).
Весьма высокомерно относился Плифон и к «Метафизике» Аристотеля, говоря, что философ занимался «пустой болтовней»54, а не изучением первопричины сущности, не стремился к отысканию высшего единства для конкретной множественности видов и форм. Согласно Плифону, нелепо рассуждение Аристотеля о целеустремленности явлений природы, если он не видел в них разумного начала, разумной движущей силы55. Целенаправленное действие может быть только сознательным. Поэтому для Плифона ясно, что мирозданием управляет разумное начало, иначе говоря — бог. Плифон усматривал в Аристотеле несомненного материалиста56. Идея бога у Аристотеля, согласно Плифону, постыдна: бог — не творец (а бытие — вечно), бог — только первый двигатель. Плифон порицает Аристотеля за то, что тот в сущности не признает бессмертия души, хотя и не решается сказать об этом прямо57.
Атеисты, писал Плифон, боятся допустить, что всему существующему предшествовало сознательное творчество. Они полагают, ссылаясь на иррациональные элементы в природе, что она творит бесцельно. Плифон резко выступал против атеизма58, но он считал, что христианство противоречит эллинскому патриотизму и эллинскому мировоззрению. Плифон отдавал отчет в значении идей для политической борьбы и полагал, что вместо христианской мистики и официального православия необходимо воссоздать религию древних эллинов, исходя из учения Платона об идеях.
Христианство (особенно в форме торжествующих идеалов исихазма) не давало, по мнению Плифона, стимулов для утверждения эллинского самосознания и для борьбы греческого народа за существование. Плифон хотел возбудить активность эллинизма в борьбе против турецкого завоевания. Эта религия, однако, не могла найти массовой опоры, она была для этого слишком рациональной. Меры по ее возрождению были бесплодными. Деятельность Плифона напоминала в сущности попытки Юлиана и Прокла в IV—V вв. воссоздать античную религию в противовес христианству59.
Используя внешние атрибуты античной религии, Плифон хотел создать совершенно новую, чисто философскую религиозную систему, опирающуюся не на «Откровение», а на логическое мышление, на очевидные истины — аксиомы и силлогизмы. Вместо веры основой создаваемой Плифоном религии являлся разум. Основная аксиома Плифона гласила: все должно иметь свою причину, совершенную во всем. Это — Зевс, причина всего сущего, сам собою сущий, сам собою единый, сам собою высшее добро60. Но добро не может быть добром, если оно не распространяется на других, — и Зевс сотворил «другое»: творчество, необходимо связанное с добром; необходимость же, исходящая из сущности, и есть свобода. У Зевса, который есть и совершенство, и свободная воля, и потенция, и действие, творчество составляет неразрывное единство61.
Плифон создал новую мифологию олимпийских богов (совсем не похожую на античную). Богу-отцу христиан у Плифона соответствовал Зевс, христианскому Логосу-Сыну — важнейший бог в системе Плифона — Посейдон62. Посейдон у Плифона — это платоновский мир идей как единство, это идея идей, начало, дающее форму; поскольку Посейдон рожден без матери (а в материнстве заключено все материальное), он лишен всего материального. Это чистая идея — сущность, мировой разум (Νους). Идею материи, идею создания множественности в единстве Плифон приписывает Гере. Соединение действий Посейдона, дающего формы конкретной действительности, и Геры, рождающей множественность, образует конкретный множественный мир, противоположный миру идей63. Идею сходства и тождества представляет, согласно Плифону; Аполлон; идею различия — Артемида. Разум человек получил от олимпийских богов, а материя в ее конкретности обязана своим происхождением Гелиосу — Солнцу. Носителем идеи человеческой бессмертной души является бог Плутон, а идеи смертной человеческой плоти — одно из низших божеств системы Плифона — титанка Кора64. Душа человеческая соединена с плотью, но вечна. Плифон признает теорию переселения душ, но только в сознательные существа, а не в бессознательных животных65. Воплощением идеи, движущей силой размножения, благодаря которой смертный человек сохраняет идею вечного человека, является Афродита. Таким образом, категориям вневременным соответствуют Зевс и его законные дети, а категориям временным — низшие боги, незаконные и побочные дети Зевса.
Носителями идей конкретных сущностей являются и дети Посейдона. В числе их находятся идеи бессмертных конкретных категорий: Солнце, Луна, планеты (Гелиос, Селена, Эосфор, Стилбон и т. д.). Идеям смертных конкретных категорий соответствовали незаконные дети Посейдона: демоны, люди, животные, растения, неорганические вещи66. Пан представлял собой идею лишенных разума животных. Необходимо отметить, что в отличие от античных боги Плифона вовсе не являлись антропоморфической персонификацией идей. Они были самыми идеями — сущностями, движущими и управляющими трансцендентными силами.
Подражая христианскому «символу веры», Плифон в своем сочинении «Основы религии Зороастра и Платона» составил «Выводы», состоящие из 12 тезисов67. Догмат «верую в единого бога» Плифон заменил тезисом «верую во множество богов». Наряду с единым принципом вещей рекомендовалось верить во множество посредников — в мировой разум, в идеи звезд, в демонов. Плифон изобрел и свой календарь и литургию. Религия Плифона имела целью дать блаженство не в потустороннем мире, а в этом, достигаемое путем соответствующего устройства общества и благодаря особой (построенной на идеях Платона) морали. Мораль Плифона основана на понятиях добра и зла; добро происходит от богов, зло проистекает от отсутствия совершенства. Человек делается плохим в результате появления в его душе низких побуждений, в силу удаления от божественной стороны человеческой души и приближения к ее смертной стороне. Зло, таким образом, состоит в удалении от высшей Идеи.
Боги наказывают людей, но это не кара в собственном смысле слова, а стремление оздоровить людей. Если под влиянием смертной стороны души человек поступает дурно, наказание, ниспосланное богами за грехи, имеет целью освободить человека от рабства у низменной, смертной части души и сделать его свободным. Добро не существует само по себе, а состоит в подражании богу, в стремлении к возвышенному в меру способностей каждого.
Плифон говорит в четырех основных добродетелях, которые в свою очередь делятся на производные, специфические добродетели: 1) φρονησις — обсуждение поступков по глубочайшим, имманентным человеку мотивам, устойчивое состояние духа, познающего сущность вещей; 2) διχαιοσυνη — справедливость в отношении к другим существам; 3) ανδρεια — мужество — преодоление инстинктивных влечений; 4) σωφροσυνη — благоразумие, или регулирование поступков, связанных с телесными потребностями.
В сущности, под «подражанием богу» Плифон понимает «следование законам природы»68.
Человек является составной частью множества организмов, частью великого «ВСЕ» — космоса, а также частью государства, семьи, и он обязан воздавать должное каждой общности69, выражаемой понятием πολιτεια. Если «полития» представляет отношение человека к обществу, то благочестие — отношение человека к богу. Это благочестие в трактовке Плифона отлично от христианского. Оно означает индивидуальное стремление познать конечную причину всех вещей и является высшей добродетелью человека. Чтобы быть счастливым, каждый должен развивать свои способности. Никакого загробного мира Плифон не признавал. Любые призывы христианских иерархов к «спасению» он называл бесстыдством.
Плифон полагал, что его религия должна стать основой для индивидуальной и социальной морали. В противоположность религии древних, которые считали ее результатом экстаза, религия Плифона объединяла онтологию и мораль. Забота о плоти и забота о морали объединялись, так как, по утверждению Плифона, одаренный разумом человек является в мир, как на организованный праздник. Никакому аскетизму в религии Плифона не было места.
По своему социальному характеру философия Плифона была аристократической, поскольку она не имела ничего общего с идеями христианского учения обездоленных, а совершенство и блаженство отождествляла с интеллектуальным развитием индивида, свободного от житейских треволнений и забот70. Плифон организовал в Мистре тайную языческую секту, деятельность которой, однако, не имела особого успеха. Запоздалое язычество с рассудочной мифологией было чуждо массам. Прямое выступление против христианства было не только преждевременным, но и опасным в период, когда стоял вопрос о сохранении самой греческой народности. Народ скорее воспринял бы реформу христианства, чем полный отказ от него. Что те касается аристократической прослойки, то для нее призыв Плифона к отказу от христианства создавал прецедент, облегчивший в дальнейшем, во время турецкого господства, переход в ислам.
Политические советы Плифона деспоту Морей были вполне искренними и проникнутыми патриотизмом. Однако основанные на платоновских идеях совершенного государства, они были абсолютно беспочвенными. В период, когда развитие шло в направлении укрепления товарного и денежного обращения, Плифон рекомендовал натуральный обмен. В условиях, когда торжествовала частная собственность, он выступал против нее. Все свои надежды он возлагал на силу эллинизма. Однако философия, черпающая идеи в прошлом и игнорирующая условия и обстановку настоящего, является в сущности идеологией обреченности.
Учение Плифона, не встретившее сочувствия на греческой почве, имело, тем не менее, существенное значение для развития итальянского Ренессанса. Его труды были высоко оценены деятелями Возрождения. Сам Плифон, будучи членом делегации на Флорентийском соборе, читал лекции во многих городах Италии. Исключительным было его воздействие на Помпония Лета. Под влиянием Плифона христианские сюжеты стали осмысливаться в языческом духе: Иоанн Креститель изображался как Дионис, ангел — как Ганимед, Мария — как Геба и т. д. Плифон помог Западу освободиться от идеологического гнета схоластического богословия, основанного на толкованиях Аристотеля. Он ознакомил Запад с подлинным Платоном и тем способствовал взлету идей Возрождения. Пребывание Плифона во Флоренции сыграла большую роль в развитии философии в Западной Европе. Козимо Медичи под влиянием Плифона содействовал изучению Платона во Флоренции (1438/39), где в 1459 г. возникла Академия.
Как перенесение праха Августина в Италию знаменовало господство идей Августина на Западе, так и погребение Плифона в этой стране (в Римини) символизировало наступление нового периода в истории западноевропейской общественной и философской мысли71. Плифон своим платонизмом потряс здание западной схоластики, и в этом состоит его историческая заслуга72. Категорический отказ Плифона от обязательной для средневекового европейца христианской идеологии способствовал развитию критической мысли на Западе. В Италии некоторое время процветал культ Платона. Его пламенные приверженцы даже обратились к папе с просьбой канонизировать Платона как христианского святого. Это был своего рода протест против схоластического извращения учения Аристотеля богословами католицизма.
В Византии вплоть до падения Константинополя продолжалась борьба вокруг платонизма Плифона. Ярым врагом Плифона был Георгий Схоларий73. Он выступил против Плифона в защиту Аристотеля, т. е. фактически в защиту традиционного, освященного церковью аристотелизма. Понимая непримиримую враждебность Плифона к христианству, Схоларий добился сожжения главного произведения Плифона. Схоларий долго жил в Италии, хорошо ознакомился с латинским богословием и схоластической философией Запада. Выступая против унии, против католической догматики, Схоларий, тем не менее, отдавал преимущество латинским методам аргументации в богословских вопросах. Особенно он увлекался Фомой Аквинским. («Ах, если бы ты был греком, а не латиняном!» — говорил он). Однако в середине XV в. Фома Аквинский уже был знаменем реакции на Западе. В своих многочисленных сочинениях, особенно тех, которые были напечатаны после того, как он стал константинопольским патриархом, Схоларий стремился сохранить незыблемой всю систему православия.
Спор между сторонниками Платона и Аристотеля, столь обостренный Плифоном, продолжался и после падения Константинополя. Георгий Трапезундский (ум. в 1478 г.) выпустил труд «Сравнение Платона и Аристотеля», полный самой резкой критики системы Платона и Плифона. Ему отвечал известный ученый Виссарион (1403—1472), глава греческих гуманистов в Италии, бывший ученик Плифона, в четырехтомном труде «Против клеветника на Платона». Это произведение вызвало больший отклик в Италии, чем в Византии, уже задавленной турецким игом74.
Под турецким владычеством закончилось развитие византийского богословия, а вместе с тем и византийской философии.
Изложенные выше выводы о философских и богословских концепциях поздней Византии, в последние века существования которой общественная мысль испытала известный подъем, являются весьма относительными. Сохранилось громадное количество философских и богословских сочинений, которые остаются по большей части неопубликованными и недостаточно изученными.
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'