ПОИСК:
МНЕСИЛОХ-ПРИХЛЕБАТЕЛЬ
Весной во время пахоты бог Дионис покидает храм и идет в поля, согретые ласковым солнцем. Идет он, конечно, не собственными ногами, а в образе статуи движется на носилках, на плечах рабов. Впереди идут музыканты: ударяют в бубны, играют на флейтах, некоторые звенят струнами цитр. Жрицы, изображающие вакханок, кружатся на ходу, черпают из горшков лепестки роз, осыпают ими встречных. Ведут ручную пантеру, по кличке Милашка, шествуют жрецы, а за жрецами уж идем мы — мальчики. Страдая от жары, мы тащим священные принадлежности: кубки для возлияний, серебряные чаши, кадила, курильницы. Килик в пышных одеждах семенит на кривых ножках, следит за всем недремлющим оком.
На мою долю досталась тяжеленная амфора. Я нес ее На плече, потом на спине, тащил в охапке — весь измаялся. Дай-ка, думаю, погляжу, что внутри. Открыл Незаметно, а там шарики пахучего снадобья — ладана; эти шарики кидают на уголья жертвенника, чтобы дым становился благоуханным. Я стал потихоньку выкидывать эти шарики в пыль дороги, и амфора становилась все легче и легче. Внезапно Килик заметил мою хитрость, выхватил амфору, хотел надавать мне затрещин, во я ловко защищался ладонями. За нами шли толпы Верующих. Килику не хотелось затевать скандал на людях, и он только прошипел:
— Погоди-ка ты у меня!.. А ну, выйди из шествия! И я пошел по обочине дороги, в тени каштанов, по
прохладе. Как будто бог Дионис сам по себе, а я — сам по себе.
Шествие вышло из Афин через двубашенные ворота и повернуло в город Ахарны. Ахарняне — народ суро. вый, кряжистый, недаром зовут их «вояки марафонские» за то, что в битве при Марафоне они одни не дрогнули, не побежали под натиском персов. Ахарняне плетут корзины, жгут уголь, сеют хлеб. Хороши у них виноградники — виноград крупный, как янтарные слезы, или удлиненный, как пальчики богини!
Поэтому бог Дионис, бог вина, — их любимый олимпиец. Каждый год в пору пахоты, когда перебродивший сок винограда разливают в винные амфоры и чаны, ахарняне приглашают Диониса со всеми его жрецами и водят веселые хороводы по лугам, усеянным небесными глазками фиалок.
Мы проходили через предместье Колон, мимо дома богача Ксантиппа. Музыканты перестали играть, жрецы повернули головы, с любопытством прислушиваясь. Из дома Ксантиппа слышались крики, ругань. Там здоровенные рабы волокли на улицу однорукого старика в нарядном хитоне голубого, модного цвета.
— Берегись каждого, кому ты сделал добро! — кричал старик. — Вот посмотрите-ка, люди, как меня Ксантипп на улицу выгоняет! Ксантипп, которому я —- благодетель!
Тут из окошка верхнего этажа высунулся сам Ксантипп, худой, черномазый, со всклокоченной бороден-кой, и закричал, сверкая белками глаз:
— Ишь какой благодетель! Есть да пить на мой счет — вот благодетель! Хитон ему новый подарил, люди добрые, так он хозяина злым словом поносит!
— Кончил бить в барабан и палочки забросил! — жаловался старик. — Не нужен ему теперь веселый Мнесилох, на улицу выкидывает!
Ба! Да ведь это тот самый старик комедиант, который вырвал меня однажды из рук разъяренного Килика.
— Эй, рабы! — неистовствовал в верхнем этаже Ксантипп. —Хватайте этого шута под микитки, раз, два, три!
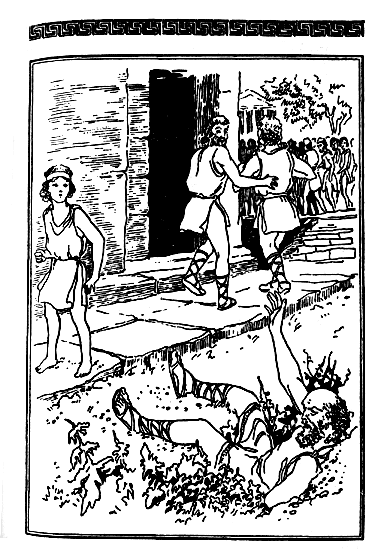
Мнесилох остался лежать в канаве, умоляя помочь ему подняться
Рабы выбросили Мнесилоха в канаву, и он остался там лежать, умоляя помочь подняться на ноги. Люди, посмеиваясь, проходили мимо: Мнесилох был известный проказник — всем казалось, что он и на этот раз играет очередную шутку.
— Кошка разбила горшок, а наказали собаку! — стонал Мнесилох. — Доблестные граждане, помогите инвалиду, который сражался за вас при Марафоне.
Я подал ему руку. Мнесилох уцепился, выбрался наверх.
— Тебе помочь? — спросил я. — Тебя больно побили?
— Ха! — засмеялся Мнесилох. — Боги осла зналиИ не дали ему рогов, так он больно не забодает!
Подбежал один из рабов Ксантиппа, вручил сверток — там была старая одежда Мнесилоха.
— Он думает, что я сниму дареный плащ, одену лохмотья! — воскликнул старик. — Э, не таков Мнесилох: что ему в руку попало, то и приклеилось.
— Проваливай! Проваливай! — закричал из окна Ксантипп. — Эй, рабы, выпустите на него собаку!
Услышав про собаку, я предложил:
— Давай я тебя отведу. Где ты живешь?
— Где я живу? — усмехнулся старик, стряхивая пыль с нового хитона. — Крыша мне — небо, звезды в ней — дырки, вместо дождя серебро в них льется. Серебра так много, что и кушать не на что.
Пока я поддерживал старика под локоть, выводя на ровную дорогу, он всматривался в мое лицо.
— Эге-ге! — вскричал он. — Это ты, маленький раб Диониса? Ну как, твой Килик больше не устраивает тебе купанья в храмовом водоеме?
Мне было неловко вспоминать о том случае, и я промолчал. Мнесилох ковылял, вздыхая, громко жалуясь богам. Так дошли мы до поворота дороги. Хвост шествия Диониса уже скрылся за пальмовой рощей.
— За что тебя Ксантипп? — осведомился я. Мне было нестерпимо жаль бездомного старика: ведь все над ним только потешались.
— А я его обличаю, малыш, — ответил Мнесилох. — Богат он — я напоминаю, что монеты пахнут слезами. Счастлив — рассказываю об Эдипе, который все растерял — царство и детей, блуждал слепым нищим. Буйствует — кротостью укоряю. Только этого героя не проймешь — неукротим, считает себя вторым Гераклом.
— Почему?
— А вот подрастешь, узнаешь, как честолюбие иногда правит человеком, заставляет всем жертвовать — и собой, и близкими... — Мнесилох вздохнул и погладил щеня по голове. — А ты беги, беги, догоняй свое шествие, попадет ведь тебе от Килика. Я отсюда и сам дойду.
Тут настиг его раб, передал деньги от Ксантиппа.
— Раскаялся? — вскричал Мнесилох. — Разжалобить хочет? Ну нет, Мнесилох хитон взял, потому что вечем прикрыть рубцы ранений. А деньги Мнесилоху —- тьфу!
И он кинул их в пыль — большие деньги, целую пригоршню монет! У меня дух занялся.
С этого момента мы сделались друзьями. Мнесилох ясил прихлебателем у богатых людей; поживет у одного, забавляет словечками и выходками, потом надоест — ему дают подарок и выпроваживают без стеснения. Мнесилох перебирается к другому; там повторяется та же история.
В комедии он был самым забавным, в народном собрании — самым горластым. Ни одного происшествия в городе не обходилось без участия Мнесилоха, ни одного праздника, ни одной церемонии.
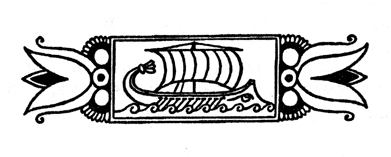
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'