ПОИСК:
А. ГОВОРОВ. АЛКАМЕН - ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО МНОЙ
Меня зовут Алкамен, мне тринадцать лет. Я родился в Афинах, в славном городе, который поэты называют «пышновенчанным» и «белоколонным».
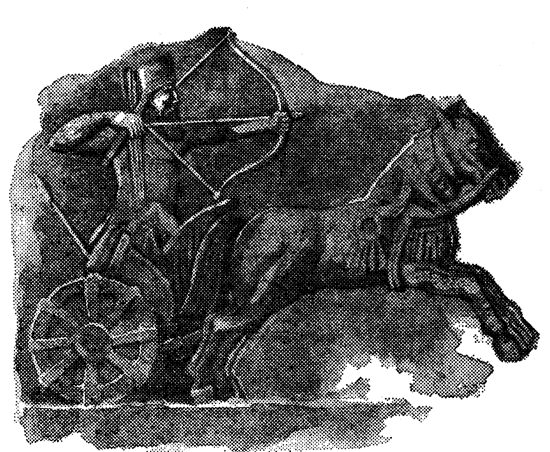
Лучник на колеснице
Однако, если я иду по улице, я низко опускаю голову и вижу только ноги прохожих. Ведь я раб, сын рабыни и не смею поднимать глаза на свободных. Вот я и хожу по улицам, не видя красоты белокаменных портиков и величавых кипарисов, которые воткнули свои верхушки в ослепительное небо.

Щит с птицей и доспехи
По вечерам, когда зной сменяется прохладой, рабы возвращаются с поля или из мастерской. Они еле волочат ноги, их ужин (кусок хлеба и горсть маслин) остается несъеденным до утра: усталые, они валятся спать. Тогда из темных сараев и мрачных подвалов сквозь стрекот цикад и крики сов доносится невнятное бормотание. Это рабы во сне проклинают Афины. Они желают этому городу, чтобы храмы его рухнули и задавили под Развалинами его жен и дочерей, чтобы огонь пожрал его Масличные рощи, чтобы чума, мор и запустение пришли в его предместья и села...
На разных языках они осыпают проклятьями его, Великий город, за то, что заковал их ноги в цепи, забил шеи в колодки, изнурил непосильной работой, отнял молодость и счастье.
Мне же старик Мнесилох (я вам позднее расскажу о нем) говорит:
— Ты еще молод, не испытал еще рабского горя, ты любишь наш город и совсем не похож на раба.
Да, я люблю Афины! Когда вечереет, я забираюсь по козьей тропе на рыжие скалы Акрополя и наблюдаю, как Феб-Солнце осторожно низводит свою раскаленную колесницу в пучины океана. Становится сразу темно, и по рощам пробегает легкая дрожь — вечерний ветерок. Вероятно, Феб вспоминает вдруг, что забыл попрощаться с грешными жителями темной земли. Его пунцовая глава еще раз прорывает пелену далеких туч и словно бы кивает на прощанье смертным: «Не печальтесь, ложитесь спать, утром я приду снова».
Нужно обязательно спросить Мнесилоха, почему, когда огненная колесница Феба касается холодных волн, почему нет ни пара, ни шипения, как это бывает у нашего кузнеца, когда он раскаленную добела подкову швыряет в чан с водой?
Пока ночь не скрыла очертания города, я поворачиваюсь в другую сторону и вижу округлые склоны Гиматских гор. Там низкорослый лес чередуется с полями виноградников и горы похожи на плохо остриженного барана — один бок кудрявый, другой с проплешинками. Между гор вьется дорога в Марафон.
И тут я думаю о славе родного города, о его свободной силе, которая одержала там, в Марафоне, десять лет назад, победу над варварами.
Но если я повернусь в третью сторону, там, несмотря на то что тьма уже завладела пространством, видится побережье, чудятся реки и снасти судов, пришедших из далеких стран. Там по палубам разгуливают обожженные солнцем и просоленные морем матросы, отважные, как аргонавты.
И все это мне недоступно — ведь я раб!
Свою маму я помню плохо. Вижу как сквозь сон, будто мы с ней идем в сад, все кусты усыпаны пышными цветами и пахнет до того приятно, что хочется заснуть и покачаться в волнах этого аромата. Помню, как большие белые руки матери проворно срывали цветы, она пела и плела венки. Эти венки мама уносила в храм, для которого она их плела, а один венок, самый красивый, мы несли в священную рощу, что позади нашего храма. Там мать надевала венок на шею гермы Солона, изображавшей приятного старца о длинной бородой.
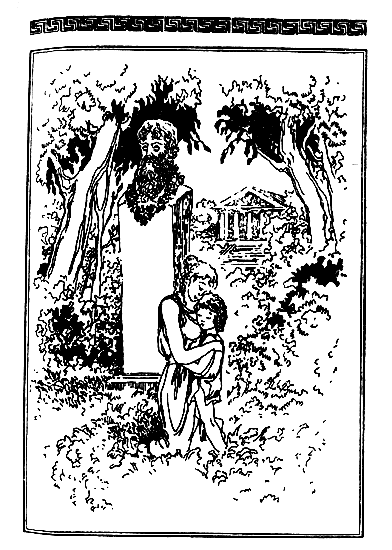
Мать одевала венок на шею гермы Солона
Как и у всех детей, у меня на груди висит на витом шнурке амулет. Мой амулет — простой оловянный кружочек, на котором выбита одна буква. Мнесилох мне объяснил, что это буква «Е», с которой начинается слово «елевферия» что значит «свобода».
Я смутно помню, как мама шептала, укладывая меня спать:
— Храни амулет, не снимай, он принесет тебе счаш стье!
Когда мне минуло четыре года, меня начали посылать с другими детьми на виноградники ловить слизняков на листьях. Однажды, вернувшись, я не застал моей мамы. Я долго кричал и звал ее, но никто не утешил меня и не объяснил, куда она делась. И я стал сиротой.
Гермы — мраморные столбы с головами богов и героев — до сих пор, конечно, стоят в священной роще Старик Мнесилох открыл мне, почему мама одевала венок именно на герму Солона. Солон, оказывается, велел освободить всех рабов-греков, родившихся в Афинах. Родители моей матери, свободные афиняне, были проданы некогда за долги в рабство в далекую Персию; законы Солона застигли их там, и они не получили свободы. Мою мать еще девочкой купили и привезли сюда, на родину ее предков. Так мы и остались рабами.
— Впрочем, — добавлял при этом Мнесилох, — среди герм есть и изображение Клисфена, а Клисфен тоже освободил многих рабов и даже дал им землю. Так что ты, парень, не горюй. Кто-нибудь из вождей демократии даст тебе свободу, недаром же ты потомственный афинянин.
А пока в ожидании свободы я лазаю сюда, на скалы Акрополя, и смотрю на призраки кораблей в ночном мареве моря.
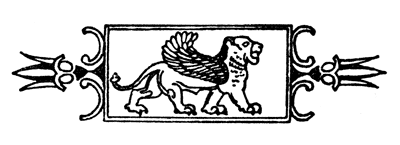
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'