ПОИСК:
Глава 19. ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА IV—VII ВВ.
Для византийской литературы IV—VII вв.1 характерны широта и недифференцированность: она включает в себя сочинения исторического характера, богословие, философию, натурфилософию и многое другое. Литература эта отличается этнолингвистической неоднородностью, многоязычием и многонациональностью. Основная ее линия — грекоязычная, так как для огромного большинства населения общим был греческий язык, ставший с конца VI в. официальным в империи. Однако наряду с грекоязычными памятниками и во взаимодействии с ними существовали произведения, написанные на латинском, сирийском, коптском и других языках.
В византийской литературе долго продолжали жить античные традиции, чему способствовало сохранение греческого языка, а также специфика системы обучения и просвещения. Постановка преподавания в начальной и высшей школах сыграла большую роль в распространении античных литературных памятников и в формировании вкусов. При этом огромное воздействие на литературу (как и на всю культуру в целом) оказало христианство. Богословские произведения составили значительную ее часть.
В литературе IV—VII вв. существуют два направления: одно, представленное языческими писателями и поэтами, и другое — христианскими авторами. Продолжают свое развитие такие античные жанры, как риторика, эпистолография, эпос, эпиграмма. С ними соседствуют новые: хронография, агиография и гимнография.
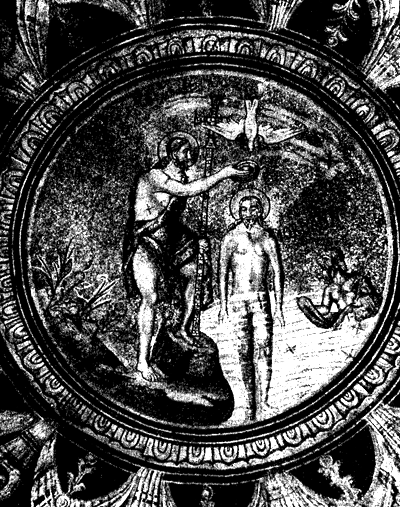
Крещение Христа. Купольная мозаика Православного баптистерия в Равенне. 449-458 гг.
Раннее христианство не могло дать художественной литературы в настоящем смысле слова. В его литературной продукции равновесие между формой и содержанием еще слишком резко нарушено в пользу содержания; жесткая установка на дидактическую «учительность» исключает осознанную заботу о внешнем оформлении; декоративные элементы стилистики отвергаются за ненужностью. Больше свободы позволяет себе апокрифическая повествовательная литература, иногда использующая приемы античного романа. Овладение арсеналом языческой культуры христианство начинает с философии; уже к началу III в. оно выдвигает такого мыслителя, как Ориген, но еще не дает ни одного автора, который мог бы конкурировать со столпами «второй софистики» также и в формальном владении словом.
Лишь накануне царствования Константина рост христианской культуры и сближение церкви с языческим обществом заходят так далеко, что создаются объективные условия для соединения христианской проповеди с самыми утонченными и разработанными формами риторики. Так закладываются основы византийской литературы.
Первенство в ней принадлежит прозе. Еще в середине III в. работает Григорий Неокесарийский (ок. 213 — ок. 273), посвятивший своему учителю Оригену «Благодарственное слово» (или «Панегирик»). Тема речи — годы учения Оригена в церковной школе и путь собственного духовного становления. Ее характер определен сочетанием традиционных стилистических форм и новой по духу автобиографической интимности; парадность панегирика и задушевность исповеди, репрезентативные и доверительные интонации контрастно оттеняют друг друга. Еще сознательнее и отчетливее игра на контрастах старой формы и нового содержания проведена в диалоге Мефодия из Олимпа в Ликии (умер в 311 г.) «Пир, или о целомудрии». Само заглавие намекает на знаменитый диалог Платона «Пир, или о любви», структура которого воспроизведена у Мефодия с большой точностью; сочинение изобилует платоновскими реминисценциями — в языке, стиле, ситуациях и идеях. Но место эллинского Эроса у Мефодия заняла христианская девственность, и содержание диалога — прославление аскезы. Неожиданный эффект создается осуществленным в финале прорывом прозаической ткани изложения и выходом к гимнической поэзии: участницы диалога поют торжественное славословие в честь мистического брака Христа и Церкви. Этот гимн нов и по своей метрической форме: в нем впервые в греческой поэзии пываются тонические тенденции.
По-видимому, опыт Мефодия был близок к литургической практике христианских общин, но в «большой литературе» он надолго остается без последствий. Через полвека ученик языческого ритора Епифания Аполлинарий Лаодикийский пытается заново основать христианскую поэзию на иных, вполне традиционалистских основах. От его многочисленных сочинений (гексаметрическое переложение обоих заветов, христианские гимны в манере Пиндара, трагедии и комедии, имитирующие стиль Еврипида и Менандра) дошло только переложение псалмов метром и языком Гомера — столь же виртуозное, сколь далекое от живых тенденций литературного развития. Рискованное соединение двух разнородных традиций — гомеровской и библейской — осуществлено с большим тактом: эпическая лексика очень осторожно приправлена небольшим количеством речений, специфичных для Септуагинты (греческий перевод Ветхого завета), что создает неожиданный, но вполне цельный языковый колорит.
Раннее христианство жило не прошлым, но будущим, не историей, но эсхатологией и апокалиптикой. К концу III в. положение меняется: христиане перестают чувствовать себя безродными «пришельцами на земле» и приобретают вкус к традиции. Церковь, внутренне созревшая для духовного господства, ощущает потребность в импонирующем увековечении своего прошлого.
Удовлетворить эту потребность взялся Евсевий2. Его «Церковная история» принадлежит научной прозе, «Жизнеописание блаженного царя Константина» — риторической. По своим установкам и стилю это типичный «энкомий» (похвальное слово), продукт старой античной традиции, восходящей еще к Исократу (IV в. до н. э.). Новой является христианская тенденция. Идеальный монарх должен быть не только «справедливым» и «непобедимым», но и «боголюбивым». Если старые риторы сравнивали прославляемых монархов с героями греко-римской мифологии или истории, то Евсевий берет объекты сопоставления из Библии: Константин — это «новый Моисей». Но структура самого сравнения остается прежней.
Именно в тот момент, когда церковь добилась полной легальности и политического влияния, она оказалась перед необходимостью заново пересмотреть свои мировоззренческие основы. Это вызвало к жизни арианскую полемику. Она стояла в центре всей общественной жизни IV в. и не могла не повлиять на ход литературного процесса.
Арий внес мирской дух в религиозную литературу. Блестящий проповедник, он хорошо знал своих слушателей — граждан Александрии, привыкших к жизни большого города. Древнехристианская аскетическая суровость стиля здесь не могла рассчитывать на успех; однако и традиции языческой классики были для масс слишком академичными и устаревшими. Поэтому Арий, сочиняя для широкой пропаганды своих богословских взглядов поэму «Фалин», обратился к иным традициям, менее уважаемым и более жизненным. Мы мало знаем о поэме знаменитого еретика — сама она утрачена (возможно даже, что это была не поэма, а смешанный стихотворно-прозаический текст типа так называемой менипповой сатиры). Но показания современников складываются в достаточно яркую картину. По одному свидетельству, Арий имитировал стиль и метр Сотада, одного из представителей легкой поэзии александрийского эллинизма; по другому, — его стихи были рассчитаны на то, чтобы их распевали за работой и в пути. Даже если эти сообщения тенденциозно утрируют компрометирующие ассоциации, вызванные творчеством Ария (поэзия Сотада была порнографической), они содержат долю истины. Александрия издавна была центром поэзии мимодий, мимиамбов и т. п. Какие-то (безусловно, лишь чисто формальные) черты этих жанров и пытался отобрать для рождавшейся христианской поэзии Арий. Его путь был более шокирующим, но и более перспективным, чем путь христианизированного классицизма Аполлинария Лаодикийского.
Египетские монахи, относившиеся к культуре больших городов с ненавистью, принимали подобные опыты резко враждебно и доходили до отрицания самого принципа литургической поэзии. От V в. дошла беседа старца Памвы с послушником, в которой суровый аскет говорит: «Не для того удалились монахи в эту пустыню, чтобы праздномыслить, да складывать лады, да распевать песнопения, да трясти руками, да переставлять ноги...». Однако процесс развития народной по духу и новаторской по форме церковной поэзии нельзя было остановить. Самые строгие ревнители правоверия должны были заняться составлением песнопений, чтобы вытеснить из обихода гимны еретиков. Одним из выразителей тенденций времени стал сириец Ефрем (ум. 373 г.)3, удачливый соперник представителей еретической гимнографии, писавший по-сирийски, но оказавший влияние и на грекоязычную литературу; один из его текстов хорошо известен по переложению Пушкина в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны...».
Народ хотел получить доходчивые и легко запоминающиеся поэтические тексты, которые можно было бы, заучив в церкви, напевать за работой и на досуге, «Путники в повозке и на корабле, ремесленники, занятые сидячей работой, короче говоря, мужчины и женщины, здоровые и недужные, прямо-таки почитают за наказание, если им что-нибудь помешает твердить эти возвышенные уроки», — констатирует в конце IV в. Григорий Нисский. Учение Ария должно было погибнуть, его имя стало одиозным, но литературное развитие во многом пошло по тому пути, который был указан его «Фалиями».
Главным антагонистом Ария был александрийский патриарх Афанасий4. Языческий дух античных традиций был глубоко чужд Афанасию, однако в стремлении к импозантной строгости стиля он придерживался школьных риторических норм. Наибольший историко-литературный интерес представляет биография египетского аскета Антония, основателя монашества (к ней, между прочим, восходит мотив «искушения св. Антония», ходовой в европейском искусстве и литературе вплоть до повести Флобера). Это сочинение было почти немедленно переведено на латинский и сирийский языки и положило начало популярнейшему в средние века жанру монашеского «жития».
Первые монахи Нильской долины чуждались литературных занятий: Антоний — это новый герой литературы, но сам он еще не мог взять в руки перо. Через несколько десятилетий монахи приобщаются к писательству. Евагрий Понтийский (ок. 346—399) основал типичную для Византии форму — руководство по монашеской этике, основанное на самонаблюдении и строящееся из афоризмов. Едва ли Евагрий и его продолжатели знали что-нибудь о философском дневнике Марка Аврелия «Наедине с собой», но сходство здесь налицо.
Идейная жизнь IV в. глубоко противоречива. Между тем как специфичнейшие порождения византийского христианства — догматическое богословие, литургическая гимнография, монашеская мистика — уже приобретают четкие контуры, язычество не хочет сходить со сцены. Его авторитет в замкнутой сфере гуманитарного образования остается очень высоким. Характерно, что христианские авторы, работающие в традиционных риторических и поэтических жанрах, нередко избегают всяких воспоминаний о своей вере и оперируют в своих произведениях исключительно языческими образами и понятиями. Юлиан Отступник тоном полной уверенности заявляет христианам, что никто в их собственных рядах не посмеет отрицать преимуществ старой языческой школы.
Именно необходимость защищать себя в борьбе не на жизнь, а на смерть против наступления новой идеологии дает языческой культуре новые силы.
Особый расцвет переживает в IV в. риторика: для ее адептов характерна глубокая убежденность в исключительном общественном значении своего дела, которая искони была непременной чертой греческого «софиста», но в условиях борьбы с христианством получила новый, углубленный смысл. В этом отношении характерен столп красноречия IV в. антиохиец Ливаний5.
Ливаний родился в Антиохии, в богатой и знатной семье. Еще в детстве проявляется у него интерес к знаниям. Стремление к образованию влечет его в Афины, где Ливаний посещает высшую школу. По окончании ее он открывает собственную школу ораторского искусства, сначала в Константинополе, потом в Никомидии. С 354 г. он возвращается на родину, где проводит остаток жизни.
В автобиографии «Жизнь, или о своей судьбе», написанной в форме речи, Ливаний пишет: «Мне следует попытаться переубедить тех, кто составил себе неверное мнение о моей судьбе: одни считают меня счастливейшим изо всех людей ввиду той широкой известности, которой пользуются мои речи, другие несчастнейшим изо всех живых существ, из-за моих непрестанных болезней и бедствий, между тем и то и другое далеко от истины: поэтому я расскажу о прежних и нынешних обстоятельствах моей жизни и тогда все увидят, что боги смешали для меня жребий судьбы...»6.
Многочисленные письма Ливания (их сохранилось более полутора тысяч) передают его философские, исторические, политические и религиозные размышления. Письма были рассчитаны на публикацию и потому интересны не только содержанием, но и блестящей формой.
В глазах Ливания искусство слова — это залог целостности находящегося под угрозой полисного уклада; риторическая эстетика и полисная этика взаимозависимы. Двуединство традиционного красноречия и традиционной гражданственности освящено авторитетом греческого язычества — и поэтому Ливаний, чуждый мистическим исканиям в духе неоплатоников, горячо сочувствует старой религии и оплакивает ее упадок. Христианство, как и все явления духовной жизни IV в., которые не умещались в рамках классической традиции, для него даже не столько ненавистно, сколько непонятно.
И все-таки тенденции эпохи выявились и в его творчестве; этот поборник классицистических норм пишет огромную по объему автобиографию, перенасыщенную интимными деталями и родственную но своему пониманию человеческой личности таким памятникам, как лирика Григория Назианзина или «Исповедь» Августина.
С творческим путем Ливания тесно соприкасается литературная деятельность его современника и друга Фемистия (320—390). Из писем Ливания мы узнаем о его уважении к достоинствам соперника — «блестящего оратора». Талант Фемистия высоко ценил Юлиан, Григорий Назианзин называл его βασιλευς λογων7.
В отличие от Юлиана и Ливания, Фемистий воздерживался от резкой полемики с приверженцами христианства. Ему была свойственна веротерпимость; недаром при всех императорах, независимо от их вероисповедания, он занимал видные государственные должности. В речи «Валенту о вероисповеданиях» Фемистий, воздавая хвалу императору, пишет: «Мудро тобой постановлено, чтобы каждый примкнул к тому вероисповеданию, которое ему представляется убедительным, и в нем искал бы успокоения для своей души...» и далее: «Какое же безумие добиваться того, чтобы все люди, против своей воли, держались одних и тех же убеждений!» По мнению Фемистия, мудр император, предоставляя свободу выбора убеждений, «так чтобы людей не привлекали к ответственности за наименование и форму их религии»8.
Показательно, что несмотря на приверженность к античной философии, в его произведениях встречаются чуждые язычеству классического периода представления, например, о земной жизни как о темнице и о загробной как о «счастливом поле». В своих речах он повсюду говорит о любви к философии, часто обращаясь к Платону и Сократу.
Речи Фемистия лишены поэтического пафоса, у него отсутствуют живые характеристики. Однако он был отличным стилистом, что немало способствовало его славе.
Речи Имерия (315—386) по содержанию, форме и стилю отличаются от речей Фемистия. Имерий стоял в стороне от общественной и политической жизни, был далек от двора и жил интересами своей школы. Речи, относящиеся к жизни школы в Афинах, где развернулась деятельность софиста, и речи, касающиеся вопросов риторского искусства, занимают в его творчестве большое место. В борьбе с христианством Имерий предпочитал эпидиктические (торжественные) речи, посвященные героическому прошлому или прославлению традиций греческой религии. Эти речи написаны в пышной, азианской манере.
Имерий придает своим речам благозвучность, используя образы, слова и выражения древнегреческих лириков. Сам он нередко называл свои речи «гимнами». Представление о манере Имерия дает речь на свадьбе родственника Севера, где жених и невеста описываются в восторженных тонах: «Еще более они сходны между собой нравом и цветущим возрастом: они как молодые розы на одном лугу, в одно время появились на свет, в одно время раскрывают свои лепестки; душевное же их сродство удивительно — оба стыдливы и чисты нравом и отличаются друг от друга только свойственными природе каждого занятиями. Она изощрилась в тканье шерсти, славном деле Афины, он обретает радость в трудах Гермеса»9.
Кумиром философов-неоплатоников и язычески настроенных риторов был император Флавий Клавдий Юлиан, прозванный христианами «Отступником». В его лице язычество выдвинуло достойного противника таких вождей воинствующего христианства, как Афанасий; человек фанатической убежденности и необычайной энергии, Юлиан боролся за возрождение язычества всеми возможными средствами, и лишь его гибель в походе против персов раз и навсегда положила конец всем надеждам сторонников старой веры. Потребности борьбы диктовали преобразование политеизма по типу христианства (в ранг догматического богословия Юлиан возводил неоплатоническую доктрину) и предельную консолидацию духовных сил языческой культуры. Эту консолидацию Юлиан пытался осуществить своим личным примером, соединяя в себе монарха, первосвященника, философа и ритора; в пределах философии и риторики он в свою очередь стремится к самому широкому синтезу. Это делает картину литературного творчества Юлиана очень пестрой в жанровом, стилевом и даже языковом отношении: все прошлое греческой культуры, от Гомера и первых философов до первых неоплатоников, одинаково ему дорого, и он силится во всей полноте воскресить его в своих собственных произведениях. Мы встречаем у него и мистические гимны в прозе, перегруженные философскими тонкостями, и одновременно захватывающие интимностью своих интонаций («К царю Солнцу», «К Матери богов»), и сатирические сочинения в манере Лукиана — диалог «Цезари», где зло осмеян христианский император Константин, и диатрибу «Ненавистник бороды, или антиохиец», где автопортрет самого Юлиана подан через восприятие враждебных ему жителей Антиохии; наконец, Юлиан отдавал дань эпидиктическому красноречию и даже эпиграмматической поэзии. От его полемического трактата «Против христиан» сохранились лишь отрывки, из которых видно, как страстно критикует он враждебную ему религию: «...Коварное учение галилеян представляет собой злобный людской вымысел. Хотя в учении этом нет ничего божественного, оно сумело воздействовать на неразумную часть нашей души, по-ребячески любящую сказки, и внушило ей, что эти небылицы и есть истина»10. Резкий тон по отношению к христианству выдержан им также в сатирах «Цезари» и «Ненавистник бороды».
Несмотря на свои реставраторские тенденции, Юлиан как писатель ближе своему беспокойному времени, чем тем классическим эпохам, о которых он тосковал: присущее ему чувство одиночества и крайне напряженное личное переживание религиозно-философских проблем стимулировали автобиографические мотивы в его творчестве; когда он говорит о своих богах, он с небывалой интимностью как бы объясняется им в любви.
Византийская литература признала Юлиана своим: если учесть то, какой ненавистью было окружено его имя по религиозным причинам, самый факт переписывания его сочинений уже в христианскую эпоху доказывает, что они, невзирая ни на что, находили себе читателей.
Дело Юлиана погибло: по известной легенде, император на смертном одре обратился к Христу со словами: «Ты победил, Галилеянин!» Но христианство, победив политически, могло бороться с авторитетом язычества в области философии и классицистической литературы лишь одним средством — как можно полнее усваивая нормы и достижения языческой культуры. В решении этой задачи огромная роль принадлежит так называемому каппадокийскому кружку, который становится во второй половине IV в. признанным центром церковной политики и церковной образованности на греческом востоке империи. Ядро кружка составляли Василий из Кесарии, его родной брат Григорий, епископ Нисы, и его ближайший друг Григорий из Назианза11.
Члены кружка стояли на вершине современной им образованности. В актуальную богословскую полемику они перенесли филигранные методы неоплатонической диалектики. Отличное знание древней художественной литературы тоже было в кружке само собой разумеющейся нормой.
Вождем кружка был Василий Кесарийский. Как и все члены кружка, Василий писал много и умело; его литературная деятельность всецело подчинена практическим целям. Его проповеди формально стоят на уровне чрезвычайно разработанной риторики этого времени — и в то же время они по самой сути своей отличаются от эстетского красноречия языческих софистов типа Ливания. У Василия, как у ораторов греческой классики во времена Перикла и Демосфена, слово снова становится инструментом действенной пропаганды, убеждения, воздействия на умы. Характерно, что Василий требовал, чтобы слушатели, не уловив смысла его слов, во чтобы то ни стало перебивали его и требовали разъяснения: чтобы быть эффективной, проповедь должна быть доходчивой. Из языческих писателей поздней античности на Василия оказал большое влияние Плутарх со своим практическим психологизмом; в частности, сочинения Плутарха послужили образцом для трактата Василия «О том, как молодые люди могут получить пользу от языческих книг». Это сочинение долго служило авторитетной реабилитацией языческой классики; еще в эпоху Возрождения гуманисты ссылались на него в спорах с обскурантами.
Среди «толкований» Василия на библейские тексты выделяется «Шестоднев» — цикл проповедей на тему рассказа о сотворении мира из Книги бытия. Сочетание серьезных космологических мыслей, занимательного материала позднеантичной учености и очень живого и прочувствованного изложения сделали «Шестоднев» в средние века популярнейшим чтением. Он породил множество переводов, переработок и подражаний (в том числе и в древнерусской литературе).
Григорий Назианзин долгое время был ближайшим другом и сотрудником Василия Кесарийского, но трудно представить себе человека, который меньше походил бы на этого властного политика, чем рафинированный, впечатлительный, нервный, самоуглубленный Григорий. Такая же грань разделяет их подход к литературе: для Василия писательство — средство повлиять на других, для Григория — выразить себя.
Обширное наследие Григория включает трактаты по догматике (отсюда его прозвище «Богослов»), риторическую прозу, близкую к декоративной манере Имерия, и письма. Но главное его значение — в его поэтическом творчестве12. Стилевой диапазон поэзии Григория очень широк. Ближе всего к древним образцам его многочисленные эпиграммы, отличающиеся интимностью тона, мягкостью, живостью и прозрачностью интонаций. Некоторые из них ничем не позволяют догадаться, что их автор — один из «отцов церкви». Вот, например, эпиграмма на могилу некоего Мартиниана:
Муз питомец, вития, судья, во всем превосходный Славный Мартиниан в лоне сокрылся моем. Доблесть в сраженьях морских он явил, в сухопутных — отвагу, После в могилу сошел, горестных бед не вкусив.
Совсем иной облик, отмеченный величавой безличностью и риторической изысканностью, носят его религиозные гимны: многочисленные анафоры и синтаксические параллелизмы искусно оттеняют их метрическую структуру и создают стиховой образ, напоминающий симметричную расстановку фигур на византийских мозаиках:
Ей, царю, царю нетленный, Чрез тебя напевы наши, Чрез тебя небесных хоры, Чрез тебя времен теченье, Чрез тебя сиянье солнца, Чрез тебя краса созвездий; Чрез тебя возвышен смертный Дивным даром разуменья, Тем от всей отличен твари.
Наряду с этим поэзия Григория имеет в своем распоряжении глубоко личные мотивы одиночества, разочарования, недоумения перед, жестокостью и бессмысленностью жизни:
О горькая неволя! Вот я в мир вступил: Кому, зачем нужны мои терзания? От сердца молвлю слово откровенное: Когда б твоим я не был, возмутился б я. Родимся; в мир приходим; провожаем дни; Едим и пьем, блуждаем, дремлем, бодрствуем, Смеемся, плачем, болести терзают плоть, Над нами ходит солнце: так проходит жизнь, А там сгниешь в могиле. Так и темный зверь Живет — в бесславьи равном, но безвиннее.
Поколение Григория еще не могло принять от других успокоительную догму — оно должно было сначала выстрадать ее. Поэтому мир Григория полон тяжелых, смутных, нерешенных вопросов:
Кто я? Отколе пришел? Куда направляюсь? Не знаю. И не найти никого, кто бы наставил меня.
Лирика Григория с захватывающей непосредственностью запечатлевает ту духовную борьбу, которой было окуплено создание церковной идеологии:
О, что со мною сталось, боже истинный, О, что со мною сталось? Пустота в душе, Ушла вся сладость мыслей благодетельных, И сердце, омертвевшее в беспамятстве, Готово стать приютом Князя мерзости.
Чисто автобиографический характер имеют три поэмы Григория: «О моей жизни», «О моей судьбе» и «О страданиях моей души». Возможно, что эти поэмы с их интимным психологизмом и огромной культурой самоанализа повлияли на возникновение «Исповеди» Августина.
Подавляющее большинство стихотворений Григория подчинено законам традиционного музыкального стихосложения, которыми Григорий владел в совершенстве. Тем более примечательно, что мы встречаем у него два случая, когда вполне сознательно и последовательно осуществлен опыт тонической реформы просодии («Вечерний гимн» и «Увещание к девственнице»). Этот эксперимент внутренне оправдан популярным характером обоих стихотворений.
Третий член кружка, Григорий Нисский — мастер философской прозы. Мировоззрение Григория стоит под знаком многовековой традиции, идущей от пифагорейцев через Платона к неоплатоникам. Стиль Григория сравнительно с манерой его сотоварищей несколько тяжеловесен, но как раз в текстах наиболее умозрительного содержания достигает такой прочувствованности и выразительности, что даже самые отвлеченные мысли подаются с пластичной наглядностью. Григорий Нисский оказал огромное влияние на средневековую литературу не только Византии, но и латинского Запада своим аллегоризмом13.
Расцвет риторической прозы, проходящей через весь IV в., захватывает в равной степени и языческую, и христианскую литературу. Но своей кульминации он достигает в творчестве церковного оратора — антиохийского проповедника Иоанна, прозванного за свое красноречие Златоустом14.
В своих произведениях, ярко рисующих общественную и религиозную жизнь эпохи, Иоанн Златоуст гневно критиковал недостатки современного ему общества15. Ораторское мастерство и блеск аттического языка были направлены против роскоши императорского двора, развращенности высшего духовенства. Все это не могло не вызвать недовольства в столице, в результате чего константинопольский епископ был низложен и отправлен в изгнание. Примерами ораторского искусства Златоуста могут служить высказывания по поводу зрелищ, которые настолько привлекали к себе людей, что церковь порой пустовала. «На зрелища приглашают каждый день, и никто не ленится, никто не отказывается, никто не ссылается на множество занятий... бегут все: ни старец не стыдится своей седины, ни юноша не боится пламени своей природной похоти, ни богатый не опасается унизить свое достоинство». Все это возмущает проповедника, и он восклицает: «Неужели напрасно тружусь я? Неужели сею я на камне или среди терновника?». Если идти на ипподром, то «...они не обращают внимания ни на холод, ни на дождь, ни на дальность пути. Ничто их дома не удержит. А сходить в церковь — дождь и грязь становится нам препятствием!»
Между тем ничего не дает хорошего посещение театра, ибо «...там можно видеть и блудодеяния, и прелюбодеяния, можно слышать и богохульные речи, так что болезнь проникает и через глаза и через слух...» И естественно, что «если ты пошел на зрелище и слушал блудные песни, то такие же слова ты непременно будешь изрыгать и перед ближним...»
Проповедь христианской морали велась с определенных классовых позиций. «Вредные для общества люди, — писал Златоуст, — появляются из числа тех, которые посещают зрелища. От них происходит возмущение и мятежи. Они более всего возмущают народ и порождают в городах бунты».
Для творчества Иоанна Златоуста, как и некоторых других авторов этой бурной эпохи (например, Юлиана Отступника), характерен лихорадочный темп. Только те сочинения Иоанна, которые вошли в известную «Патрологию» Миня, занимают в ней 10 фолиантов; такая продуктивность особенно удивительна, если иметь в виду филигранную риторическую отделку. Красноречие Иоанна имеет страстный, нервный, захватывающий характер. Вот как он обращается к тем, кто недостаточно благопристойно ведет себя в церкви: «...Жалкий ты и несчастный человек! Со страхом и трепетом следовало бы тебе возглашать ангельское славословие, а ты переносишь сюда обычаи мимов и танцоров! Как ты не боишься, как не трепещешь, приступая к таким речениям? Неужели же ты не понимаешь, что сам господь незримо присутствует здесь, измеряет твои движения, исследует твою совесть?...» Проповеди Иоанна изобилуют злободневными намеками; когда императрица пригрозила ему репрессиями, он начал очередную проповедь на празднике Иоанна Крестителя такими словами: «Снова Иродиада неистовствует, снова беснуется, снова ведет пляски, требуя себе головы Иоанна на блюде...», — и слушатели, разумеется, все поняли.
Замечательно, однако, что установка на популярность не остановила Иоанна в его следовании канонам аттикизма. Словесная ткань его проповедей изобилует реминисценциями из Демосфена, с которым, правда, его сближало не только формальное подражание, но и внутренняя конгениальность: за все восемь веков у Демосфена не было более достойных наследников. Все же виртуозная игра с классическими оборотами, надо думать, мешала слушателям Иоанна до конца его понимать.
Иоанн Златоуст был недостижимым идеалом для каждого византийского проповедника. Читательское восприятие его произведений хорошо выражает надпись на полях одной греческой рукописи, хранящейся в Москве:
Сколь дивной добродетели блистание, Великий Иоанне, из души твоей, Всей силой бога славящей, излилося! За это и златое красноречие Тебе дано. Так смилуйся над грешником! Аз, горемыка Гордий, в страшный судный день Твоей да буду сохранен молитвою!
Каппадокийцы и Иоанн Златоуст довели христианскую литературу до высокой степени утонченности. Но одновременно с ними другие авторы очень продуктивно разрабатывали иные формы, более плебейские, чуждые академичности стиля и языка. Среди них следует отметить Палладия Еленопольского (ок. 364 — ок. 430), автора «Лавсаика», или «Лавсийской истории» (по имени некоего Лавса, которому книга посвящена). «Лавсаик» — это цикл рассказов о египетских аскетах, среди которых Палладий долго прожил сам.
Главные достоинства книги - острое ощущение бытового колорита и фольклорная по духу непосредственность изложения. Классические реминисценции здесь немыслимы; даже от того рода академичности, которая еще была в «Житии Антония Великого», составленном Афанасием, здесь не осталось и следа. Синтаксис крайне примитивен; как можно судить по вводным частям книги, выполненным в иной фактуре, эта примитивность в большой мере сознательна. Очень живо имитирован разговорный тон. Вот образец стиля «Лавсаика»: «...Когда же прошло тому пятнадцать лет, вселился в калеку бес и принялся подстрекать его против Евлогия; и начал калека хулить Евлогия такими словами: "Ах ты, захребетник, ханжа, лишние денежки припрятал, а на мне хочешь душу спасти? Тащи меня на площадь! Хочу мяса!" - Принес Евлогий мяса. А тот снова за свое: "Мало! Хочу народа! Хочу на площадь! У, насильник!"». Палладий хорошо знал своих героев, и они еще не превратились для него в безличные олицетворения монашеских добродетелей. Конечно, он их очень почитает и любит, усматривая в их странном, нередко гротескном образе жизни высшее выражение святости и духовной силы; в то же время он далеко не лишен по отношению к ним чувства сдержанного юмора. Это сочетание пиетета и комизма, набожной легенды и деловитой реальности и делает монашеские новеллы Палладия своеобычным, привлекательным памятником. У них есть свое лицо.
Созданный Палладием (несомненно, с опорой на неизвестных нам предшественников) тип новеллистических рассказов из жизни аскетов получил в византийской литературе огромное распространение. Он перешел и в другие литературы христианского средневековья: на Руси такие сборники назывались «патериками», в Западной Европе к этой жанровой форме восходят, например, знаменитые «Фьоретти» («Цветочки» Франциска Ассизского, XIII в.).
Особое место в литературном процессе своей эпохи занимает Синесий из Кирены16. Прежде всего его нельзя отнести ни к языческой, ни к христианской литературе. Синесий был высокообразованным потомком исконно греческого рода, возводившего себя к Гераклу; внутреннее сродство с античной традицией достигало у него такой степени органичности, как ни у кого из современных ему авторов. Более или менее искренне принимая авторитет христианства, он стремился сгладить всякое противоречие между ним и эллинством: по его собственным словам, черный плащ монаха равнозначен для него белому плащу мудреца. Идущая от античности потребность в общественной активности заставила его против воли принять сан епископа, но он никогда не смог отказаться от своих языческих симпатий и настроений. Литературная деятельность Синесия довольно многообразна. Его живые по тону и утонченные по стилю письма служили непререкаемым образцом для византийской эпистолографии: еще в X в. автор «Свиды» называет их «предметом общего восхищения», а на грани XIII и XIV вв. Фома Магистр составляет к ним обстоятельный комментарий. Речь «О царской власти» — своеобразная политическая программа, развернутая Синесием перед императором Аркадием, — связана со злободневными вопросами, но духовно и стилистически ближе к политическому морализированию «второй софистики», чем к живым тенденциям своего времени. Кроме того, от Синесия дошли: своеобразный мифологический «роман» с актуальным политическим содержанием — «Египетские рассказы, или о провидении», автобиографически окрашенный трактат «Днон, или о жизни по его примеру» (об авторе I—II вв. Дионе Хрисостоме)17, риторическое упражнение «Похвальное слово лысине», еще несколько речей и религиозные гимны, отмеченные колоритным смешением языческих и христианских образов и мыслей. Метрика гимнов имитирует размеры древней греческой лирики, а архаичность их лексики осложнена реставрацией старинного дорического диалекта.
IV в. был по преимуществу веком прозы; он дал только одного большого поэта — Григория Назианзина. В V в. происходит оживление поэзии. Уже на пороге этого века стоит Синесий с его гимнами, но важнейшим событием литературной жизни эпохи явилась деятельность египетской школы поэтов-эпиков.
О жизни основателя этой школы Нонна из египетского города Панополя почти ничего не известно. Он родился около 400 г. и к концу жизни стал епископом. От его сочинений ДОПЕЛИ два: огромная по объему (48 книг — как «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые) поэма «Деяния Диониса»18 и «Переложение св. евангелия от Иоанна». И поэма, и переложение выполнены в гексаметрах. По материалу они резко контрастируют друг с другом: в поэме господствует языческая мифология, в переложении — христианская мистика. Но стилистически они вполне однородны. Нонну одинаково недоступна пластическая простота Гомера и безыскусственная простота евангелия: его художественное видение мира характеризуется эксцентричностью и избытком напряженности. Его сильная сторона — богатая фантазия и захватывающий пафос; его слабость — отсутствие меры и цельности. Нередко образы Нонна совершенно выпадают из своего контекста и обретают автономную жизнь, пугая своей загадочностью и темной значительностью. Вот как он описывает смерть Христа:
...Некто, с неистовым духом
Губку, возросшую в бездне морской, в непостижной пучине,
Взял и мучительной влагой обильно насытил, а после
На острие тростника укрепил и приподнял высоко;
Так он к устам Иисуса приблизил смертельную горечь,
Прямо пред ликом его на шесте длиннотенном колебля,
В воздухе губку высоко и влагу в уста изливая...
...Вот ощутили гортань и уста горчайшую влагу;
Весь обмирая, он молвил последнее слово: «Свершилось!» —
И, преклоняя главу, предался добровольной кончине...
Нонн осуществил важную реформу гексаметра, сводящуюся к следующему: исключение стиховых ходов, затруднявших восприятие размера при том состоянии живого греческого языка, которое существовало к V в.; учет наряду с музыкальным также и тонического ударения; тенденция к унификации цезуры и педантической гладкости стиха, оправданная тем, что гексаметр окончательно затвердел в своей академичности и музейности (начиная с VI в. традиционалистический эпос постепенно оставляет гексаметр и переходит на ямбы). Гексаметр Нонна — это попытка найти компромисс между традиционной школьной просодией и живой речью на путях усложнения версификации.
Влияние Нонна испытал ряд поэтов, разрабатывавших мифологический эпос и усвоивших новую метрическую технику. Многие среди них — египтяне, как и сам Нонн (Коллуф, Трифиодор, Кир из Панополя, Христодор из Коптоса); неизвестно происхождение Мусея, от которого дошел эпиллий «Геро и Леандр», отмеченный античной ясностью и прозрачностью образной системы. Киру принадлежит, между прочим, эпиграмма на Даниила Столпника, где гомеровские речения курьезным образом применены к описанию христианского аскета:
Се, меж землею и небом стоит человек недвижимо, Всем беснованьям ветров плоть подставляя свою. Имя ему — Даниил. Симеону в трудах соревнуя, Столпный он подвиг приял, к камню приросши стопой. Кормится ж он амвросическим гладом и жаждой нетленной, Силясь восславить собой Девы пречистой Дитя.
Христодор уже на грани V и VI вв. составил поэтическое описание (модный в эту эпоху жанр экфрасиса) античных статуй из одного столичного гимнасия. Вот описание статуи Демосфена:
...Не был облик спокойным: чело выдавало заботу, В сердце премудром глубокие думы чредой обращались Словно сбирал он в уме грозу на главы эмафийцев. Скоро, скоро от уст понесутся гневные речи, И зазвучит бездыханная медь!.. Но нет, — нерушимо Строгой печатью немые уста сомкнуло искусство.
Но самый талантливый поэт рубежа V и VI вв. стоит вне школы Нонна: это — александриец Паллад, работавший в жанре эпиграммы19. Господствующий тон лирики Паллада — мужественная, но безнадежная ирония: его герой — нищенствующий ученый, обороняющийся против невзгод бедности и семейной жизни сарказмами (жалобы на денежные затруднения и злую жену становятся в византийской лирике популярным общим местом).
Симпатии поэта на стороне уходящей античности. С грустью осознает он неизбежность гибели старого, близкого ему мира. Он оплакивает поверженную статую Геракла:
Медного Зевсова сына я видел в пыли перекрестка; Прежде молились ему — ныне повергли во прах. И потрясенный сказал: «О Трехлунный, от зол хранитель, Непобедимый досель, кем ты повержен, скажи?» Ночью, представ предо мною, промолвил мне бог, улыбаясь: «Бог я, — и все же познал времени власть над собой».
Палладу чуждо христианство, и нескрываемая грустная ирония звучит в его стихотворении «На дом Марины»:
Боги Олимпа теперь христианами стали и в доме Этом беспечно живут, ибо пламя им здесь не опасно, Пламя, кормящее тигель, где плавится медь на монету.
Реставраторская политика Юстиниана в какой-то степени содействовала усилению классицистического направления в литературной жизни. Ситуация была противоречивой до парадоксальности: Юстиниан жестоко преследовал отступления от христианской идеологии, но в литературе поощрял тот формальный язык, который был заимствован у языческой классики. Поэтому в середине VI в. процветают два жанра: историография, живущая пафосом римской государственности, и эпиграмма, живущая пафосом унаследованной от античности культуры.
Самый значительный историк этой эпохи — Прокопий, продолжателем которого был Агафий Миринейский20. Агафий работал также в другом ведущем жанре того времени — в жанре эпиграммы.
Эпиграмма — форма лирической миниатюры, предполагающая особо высокий уровень внешней отделки. Именно этим она привлекает поэтов эпохи Юстиниана, которые стремятся продемонстрировать рафинированность своего вкуса и свое знакомство с классическими образцами. Эпиграммы пишут многие: наряду с большими мастерами — Агафием, Павлом Силенциарием, Юлианом Египетским, Македонией, Эратосфеном Схоластиком — выступает легион подражателей: Леонтий Схоластик, Аравии Схоластик, Лев, Дамохарид Косский, Иоанн Варвукал и др. По социальному положению это либо придворные (Павел — «блюститель тишины» при дворе Юстиниана, Юлиан — префект Египта, Македонии — консуляр), либо блестящие столичные адвокаты (Агафий, Эратосфен, Леонтий). Вот одна из эпиграмм Юлиана — облеченный в стихи комплимент свойственнику императрицы Иоанну:
А. Славен, могуч Иоанн! Б. Но смертен. А. Монаршей супруге
Свойственник! Б. Смертен, добавь. А. Царского рода побег!
Б. Смертны и сами цари. А. Справедлив! Б. Лишь это бессмертно
В нем: добродетель одна смерти и рока сильней.
В эпиграмматике эпохи Юстиниана преобладают условные классические мотивы; только иногда налет сентиментальности или эротическая острота выдают наступление новой эпохи. Придворные поэты императора, старательно выкорчевывавшего остатки язычества, изощряют свое дарование на стереотипных темах: «Приношение Афродите», «Приношение Дионису» и т. п.; когда же они берутся за христианскую тему, они превращают ее в игру ума. Павлу Силенциарию пришлось по заказу императора воспеть только что построенную св. Софию: он начинает самую выигрышную часть своего изящного экфрасиса — описание ночной иллюминации купола — мифологическим образом Фаетона (сын Гелиоса, пытавшийся править его солнечной колесницей):
Все здесь дышит красой, всему подивится немало Око твое. Но поведать, каким светозарным сияньем Храм по ночам освещен, и слово бессильно. Ты молвишь: Некий ночной Фаетон сей блеск излил на святыню!..

Силен и Менада. Блюдо. Серебро. VII в. Государственный Эрмитаж.
Мифологическими образами оперирует и анонимная эпиграмма, прославляющая другое великое создание Юстиниановой эпохи — кодификацию законодательства, проведенную под началом Трибониана:
Юстиниан властодержец сие сочиненье замыслил; Трибониан потрудился над ним, угождая владыке, Словно бы щит многоценный творя для мощи Геракла, Хитрой чеканкой премудрых законов украшенный дивно. Всюду — в Азийской, в Ливийской земле, в пространной Европе Внемлют народы царю, что устав начертал для вселенной.
К эпиграмматике примыкает и анакреонтическая поэзия, характеризующаяся теми же чертами — имитацией языческого гедонизма,
стандартностью тематики и отточенностью техники. Вот стихи на языческий праздник розы, принадлежащие Иоанну Грамматику (первая половина VI в.):
Вот Зефир теплом повеял, И раскрылся, примечаю, И смеется цвет Хариты, И луга пестреют ярко. А Эрот стрелой искусной Будит сладкое желанье, Чтобы жадный зев забвенья Не пожрал людского рода. Сладость лиры, прелесть песни Призывают Диониса, Возвещают праздник вешний И премудрой дышат Музой... ...Дайте мне цветок Киферы, Пчелы, мудрые певуньи, Я восславлю песней розу: Улыбнись же мне, Киприда!
Эта искусственная поэзия, играющая с отжившей мифологией, поверхностной жизнерадостностью и книжной эротикой, не прекращает своего существования и в последующие века византийской литературы (особенно после XI в.), парадоксальным образом соседствуя с мотивами монашеской мистики и аскетизма.
Однако в том же самом VI в. возникает совсем иная поэзия, соответствующая таким органичным проявлениям новой эстетики, как церковь св. Софии. Народная по духу литургическая поэзия после всех экспериментов и поисков IV—V вв. внезапно обретает всю полноту зрелости в творчестве Романа, прозванного потомками Сладкопевцем (род. в конце V в., ум. после 555 г.)21. Естественность и уверенность, с которой творил Роман, казалась современникам чудом; согласно легенде, сама богородица в ночном сновидении отверзла ему уста, и на следующее же утро он взошел на амвон и спел свое первое песнопение22.
Уже по своему происхождению Роман ничем не связан с воспоминаниями античной Греции: это — уроженец Сирии, может быть — крещеный еврей. Прежде чем поселиться в Константинополе, он служил диаконом в одной из церквей Бейрута. Сирийские стиховые и музыкальные навыки помогли ему отрешиться от догм школьной просодии и перейти на тонику, которая одна только могла создать внятную для византийского уха метрическую организацию речи. Роман создал форму так называемого кондака — литургической поэмы, состоящей из вступления, которое должно эмоционально подготовить слушателя, и не менее чем 24 строф. Та раскованность, которая впервые в истории греческой литургической лирики появляется у Романа, позволила ему достичь громадной продуктивности; по сообщениям источников, он написал около тысячи кондаков. В настоящее время известны около 85 кондаков Романа (атрибуция некоторых сомнительна).
Отказавшись от ретроспективных метрических норм, Роман должен был резко повысить роль таких факторов стиха, как аллитерации, ассонансы и рифмоиды. Весь этот набор технических средств существовал в традиционной греческой литературе, но всегда был достоянием риторической прозы; Роман перенес его в поэзию, создав в некоторых своих кондаках такой тип стиха, который вызовет у русского читателя явственные ассоциации с народными «духовными стихами» (а иногда и с так называемым раешником). Вот два примера (из кондаков «О предательстве Иудином» и «На усопших»):
...Боже, водами стопы омывающий Устроителю твоего погубления, Хлебами уста наполняющий Осквернителю твого благословения, Предателю твоего лобызания, — Ты возвысил нищего мудростью, Обласкал убогого мудростью, Одарил и облагодетельствовал Игралище бесовское!.. ...Неженатый в тоске угрызается, Женатый в суете надрывается; Бесчадный терзаем печалями, Многочадный снедаем заботами; Те во браке трудами снедаемы, Те в безбрачьи бесчадьем терзаемы...
С этим богатством языка форм Роман соединяет народную цельность эмоции, наивность и искренность нравственных оценок. Кондак об Иуде завершается таким потрясающим обращением к предателю:
...О, помедли, злосчастный, одумайся,
Помысли, безумный, о возмездии!
Совесть свяжет и сгубит грешника,
И в ужасе, в муках одумавшись,
Ты предашь себя смерти мерзостной.
Древо встанет над тобой губителем,
Воздаст тебе сполна и без жалости.
И на что, сребролюбец, польстился ты?
Страшное злато бросишь,
Гнусную душу сгубишь,
И сребрениками себе не поможешь,
Продавши сокровище нетленное!..
Как это ни неожиданно, но чисто религиозная по своей тематике поэзия Романа гораздо больше говорит о реальной жизни своего
времени, чем слишком академичная светская лирика эпохи Юстиниана. В кондаке «На усопших» с большой внутренней закономерностью возникают образы той действительности, которая волновала плебейских слушателей Романа:
...Над убогим богач надругается, Пожирает сирых и немощных; Земледельца труд — прибыль господская, Одним пот, а другим — роскошества, И бедняк в трудах надрывается, Чтобы все отнялось и развеялось!..
В творчестве Романа собраны мотивы и образы, которые наиболее адекватно выражали эмоциональный мир средневекового человека. Поэтому мы находим у него прообразы не только многих произведений позднейшей византийской гимнографии (например, «Великого канона» Андрея Критского), но и двух знаменитейших гимнов западного средневековья — Dies irae и Stabat mater.
Роман Сладкопевец намного превышал современников масштабом своего художественного дарования, но он был не одинок. От эпохи Юстиниана и его преемников дошло немало поэтических и прозаических произведений, которые безыскусственно и непритязательно, но с большой органичностью выразили византийский стиль жизни и миропонимания.
Плебейской образной системой по большей части отличается обширнейшая литература прозаических или версифицированных монашеских поучений. Иоанн Постник, патриарх Константинополя, едва ли считал себя поэтом, но его «Предписания монаху» в ямбических триметрах останавливают на себе внимание своей грубоватой жизненностью:
...Не смей одними кушаньями брезговать, Другие выбирать себе по прихоти; А кто брезглив, таким и мы побрезгуем... ...Болтливости и сплетен как бича беги: Они ввергают сердце в скверну смертную. Не смей плеваться посредине трапезы, А коль нужда припала так, что мочи нет, Сдержись, скорее выйди и откашляйся. О человече, есть и пить желаешь ты? В том нет греха. Но бойся пресыщения! Перед тобою блюдо, из него и ешь, Не смей тянуться через стол, не жадничай!..
В этих стихах характерна, между прочим, их ямбическая форма: из традиционных классических метров ямбический триметр усваивается византийской поэзией с наибольшей органичностью. При этом его музыкальная просодия все больше игнорируется, и он переосмысляется как чистая силлабика; минимальный уровень структурности поддерживается в этих равносложных строчках тем, что последнее тоническое ударение в стихе падает непременно на предпоследний слог (таким образом, когда мы называем эти стихи ямбами и соответственно их переводим, это чистая условность — но этой условности придерживались сами византийцы). Постепенно и эпос переходит от академичных форм элегического дистиха к ямбам.
Официозная пропаганда в целях воздействия на народ сама принуждена была воспринять плебейские, полуфольклорные формы, без которых она так же не могла обойтись, как без импозантных стихов придворных поэтов. Еще в эллинистических монархиях и в римской империи был распространен обычай хоровой декламации или речитативного распевания ритмически оформленных верноподданнических приветствий государю. Особое развитие и усложнение получил этот обычай в громоздком ритуале византийских придворных празднеств, в которые на роли статистов вовлекались и народные толпы. Вот текст для хорового исполнения на празднике весны — здесь фольклорная основа выявляется особенно наглядно:
Опять весна прекрасная приходит нам на радость, Неся отраду, здравье, жизнь, веселье и удачу. Неся от бога силу в дар ромейскому владыке И одоленье на врагов господним изволеньем!
Подобные же тексты распевались на праздниках воцарений, коронаций, бракосочетаний императоров, на пасхальных торжествах и т. п. Но в большом ходу были и формально близкие к ним народные поношения и насмешки, которыми византийская толпа осыпала власть имущих во время волнений и восстаний.
Широкая читательская аудитория Византии получает в эту эпоху и свою историографию. Труды Прокопия или Агафия с их интеллектуальной и языковой утонченностью были непонятны рядовому читателю; для него создается чисто средневековая форма народно-монашеской хроники23.
Выше уже говорилось о народном характере аскетической назидательной литературы. Фольклорный тон особенно характерен для знаменитой «Лестницы» синайского монаха Иоанна (ок. 525 — ок. 600), прозванного по своему главному труду «Лествичником»24. «Лествица» простым и непринужденным языком излагает предписания суровой аскетической морали, перемежающиеся с доверительными рассказами о личных переживаниях и уснащенные красочными пословицами и поговорками. К долгу подвижника Иоанн относится с народной прямотой и бесхитростностью; претенциозной монашеской мистике он чужд. Перевод «Лествицы» известен на Руси с XI в. и пользовался огромной популярностью. Другой тип аскетической литературы, характеризующийся большей утонченностью психологического самонаблюдения и культом созерцательности, в эту же эпоху представлял Исаак Сириянин: его «Слова наставнические» (составлены на сирийском языке и вскоре переведены на греческий) говорят об «умилении», об «изумлении перед красотой собственной души». На Руси Исаака читали с XIV в.; есть основания думать, что его «Слова наставнические» были известны Андрею Рублеву и повлияли на его творчество.
К этому же кругу памятников относится и житийная литература. Выдающимся агиографом VI в., одним из создателей житийного канона, был Кирилл из Скифополя. Годы его жизни точно неизвестны: год рождения — примерно 524. Благодаря отцу, который был юристом, Кирилл получил хорошее образование, хотя и не обучился риторике25, о чем он сам сожалеет. В 543 г., будучи монахом, он поступил в монастырь св. Евфимия, затем перешел в монастырь св. Саввы.
Живой интерес к прославленным основателям монастырей Палестины побудил его собрать более точные сведения об их жизни. Параллельно он создал образы и других палестинских монахов, что имело немалое значение для истории церкви и монастырей Палестины.
Кирилл не был писателем-профессионалом, но написанные им жития служили ориентиром для его последователей. Его сочинения отличались хронологической точностью, бесхитростным изложением. Они содержали ценные исторические факты, например сведения об арабских племенах26. Немалую роль играло и то обстоятельство, что Кирилл был современником своих героев, что позволяло представить их на реальном культурно-историческом фоне.
Общественные и политические катаклизмы VII в. способствовали той вульгаризации литературы, которая наметилась уже в предшествующие столетия.
Классические традиции теряют смысл; переживание преемства власти и культуры, восходящего к античным временам, перестает быть актуальным. Рафинированная имитация древних образцов находит все меньше читателей. При этом в рамках специфической духовной ситуации раннего средневековья вульгаризация литературы неизбежно должна была вылиться в ее сакрализацию; удельный вес жанров, связанных с жизнью и запросами церкви и монастыря, сильно возрастает. Народно-монашеские формы, оттесненные в VI в. на периферию литературного процесса, оказываются в центре.
Последним отголоском «высокой» светской поэзии VI в. было творчество Георгия Писиды27 (прозвище от названия малоазийской области Писидии, откуда Георгий был родом), хартофилака при Ираклии. Далеко не случайно, что Георгий работал именно в эпоху Ираклия: это царствование было последним просветом перед тяжелыми десятилетиями арабского натиска, и его современникам могло показаться, что возвращаются времена Юстиниана. Военным операциям своего царственного патрона Георгий и посвятил свои большие эпические поэмы: «На поход царя Ираклия против персов», «На аварское нашествие с изложением брани под стенами Константинополя между аварами и горожанами» и «Ираклиада, или на конечную гибель Хосрова, царя персидского». Кроме того, Георгию принадлежат менее значительные поэмы моралистического и религиозного содержания; среди них выделяется «Шестоднев, или Сотворение мира», свидетельствующая о выдающейся начитанности Писиды в античной литературе. Переводы «Шестоднева» имели хождение в Армении, в Сербии и на Руси. Писал Георгий Писида и ямбические эпиграммы.

Мученик Лаврентий направляется на костер. Мозаика Мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Вторая четверть V в.
Исторические произведения Писиды особенно интересны. Центральный образ героического эпоса — император, окруженный ореолом воинской славы и доблести. Поэт выступает певцом славы Ираклия. Несмотря на тенденциозность, риторический стиль и манерность выражения, эти произведения отражают трудность внешнего положения империи первой половины VII в. и важны фактическими данными.
Творчество Писиды обращает на себя внимание ретроспективностью и школьной корректностью его метрики. Большая часть его произведений выполнена в ямбах, которые у него, в отличие от его современников, соответствуют нормам музыкальной просодии. Он достигает во владении ямбическим триметром такой виртуозности, что побудил тонкого ценителя Михаила Пселла (XI в.) всерьез обсуждать в особом трактате проблему: «Кто лучше строит стих — Еврипид или Писида?» Иногда он прибегает к гексаметру; в этих случаях он скрупулезно соблюдает просодические ограничения школы Нонна. Образная система Писиды отличается большой ясностью и чувством меры, которые также заставляют вспомнить о классических образцах.
И все же Писида ушел от античности гораздо дальше, чем придворные поэты Юстиниана. Мы встречаем у него изображение Судьбы, выдержанное в духе чистейшего средневекового аллегоризма и заставляющее вспомнить десятки параллелей из вагантской поэзии или книжной миниатюры средневековья:
...Представь в уме плясунью непотребную, Что с шумом и кривляньем лицедействует. Изображая бытия превратности Обманчивым мельканьем суетливых рук. Срамница млеет, вертится, жеманится, Подмигивая томно и прельстительно Тому, кого дурачить ей взбрело на ум, Но тотчас на другого и на третьего Все с той же блудной лаской переводит взор. Все обещает, все подделать силится И ничего не создает надежного, Как потаскуха, что с душой остывшею Ко всем с притворным пылом подбирается...
За средневековой аллегорией с необходимостью следует характерное назидание:
Глупцам — престолы, царства, слава, почести, Со злобой и заботой неразлучные; Но для того, кто истину постичь сумел, Престол — молитва, слава — речи тихие...
Все же поэзия Писиды, с ее светской ориентацией, языковым пуризмом и метрической корректностью резко выделяется на фоне литературной продукции своей эпохи. Несколькими поколениями спустя она уже была бы анахронизмом.
Более перспективной была та линия литургической поэзии, которую открыл собой Роман Сладкопевец. Современником и другом Георгия Писиды был патриарх Сергий (610—638); под его именем дошло знаменитейшее произведение греческой гимнографии — «Великий Акафист» богородице. Эта атрибуция сомнительна: поэму приписывали Роману, патриарху Герману и даже Писиде. Очевидно одно: хотя бы вводная часть акафиста создана немедленно после нашествия аваров в 626 г. Форма акафиста предполагает бесконечное нагнетание обращений и эпитетов, начинающихся одним и тем же приветствием (в традиционном русском переводе «радуйся»). Строки попарно соединены между собой жестким метрическим и синтаксическим параллелизмом, подкрепленным широчайшим использованием ассонансов и рифмоидов:
Радуйся, мудрости божией вместилище, Радуйся, милости господа хранилище, Радуйся, цветок воздержания, Радуйся, венок целомудрия, Радуйся, козни ада поборающая, Радуйся, двери рая открывающая...
Перевод может дать лишь крайне обедненное представление об этой поэтической структуре, держащейся на сложнейшей игре мысли, слов и звуков; в рамках другого языка эту игру воспроизвести нельзя. Гибкость и виртуозность словесной орнаментики достигает в «Великом акафисте» высочайшей степени. Но движения, драматической градации напряжения, которые еще можно встретить в кондаках Романа, здесь нет. Это не значит, что поэма однообразна или монотонна. Напротив, она играет величайшим разнообразием оттенков лексики и евфонии, но это разнообразие родственно пестроте арабесок: за ним нет динамики. В целом поэма статична в такой мере, какая была бы невыносимой для любого читателя и слушателя, кроме византийского (это отнюдь не общая черта литургической поэзии — во всех произведениях западной средневековой гимногафии, которые по своему художественному уровню могут выдерживать сравнение с «Великим акафистом», всегда есть внутреннее развитие).
Между тем мы видим, что автор умел передавать движение человеческой эмоции достаточно убедительно: в обрамляющих строфы вставных частях он изображает смущение Марии перед своей судьбой, недоумение Иосифа и т. п. Но характерно, что эти наброски и зарисовки лежат на периферии художественного целого. Византийская эстетика требовала от гимнографа статичности. По выражению Иоанна Лествичника. тот, кто достиг нравственного совершенства, «уподобляется в глубине своего сердца недвижной колонне»; большего контраста готическому пониманию одухотворенности как динамического напряжения невозможно представить себе. В своей статичности «Великий акафист» — точный коррелят произведений византийской живописи. Он идеально подходит к ритму богослужебного «действа» греческой литургии, к интонациям византийской музыки (которые тоже статичны), к очертаниям церковного интерьера, наполненного мерцанием свечей и поблескиванием мозаик. Здесь достигнуто такое же цельное единство поэтического текста и архитектурного пространства, как некогда в аттическом театре эпохи Софокла.
Продолжателями агиографических традиций VI в. были Иоанн Мосх, Софроний Иерусалимский, Леонтий Неапольский. Все они принадлежали к одному кружку, который характеризовался, с одной стороны, желанием приблизить литературу к народу, с другой — отрывом от античности.
Палестинский монах Иоанн Мосх (ум. в 619 г.), предпринявший многочисленные поездки в Египет, Малую Азию, Сирию, на Синай и Кипр, составил, как результат своих путешествий, вместе с другом, Софронием Иерусалимским, сборник рассказов о монахах «Луг духовный», или «Лимонарь». Это произведение отличается простотой сюжета, реализмом, живостью характеристик. «Лимонарь» имел немалый успех, неоднократно перерабатывался и расширялся28.
Иоанном Мосхом и Софронием совместно написано жизнеописание Иоанна Милостивого, предназначенное для образованного круга. В подобных житиях, рассчитанных на представителей высшего класса византийского общества, авторы стремились показать свою эрудицию: знакомство с античной литературой, знание риторики; однако нередко теряли при этом в оригинальности.
Виднейшей фигурой демократической агиографии VII в. был Леонтий из Неаполя на острове Кипре (конец VI — середина VII в.). Его сочинения отличаются редкой живостью тона; при этом его сближает с его жанровым предшественником Палладием то, что он далеко не избегает в своих житиях юмористических оценок. Вот что он рассказывает о юродивом св. Симеоне29: «...На одной улочке девки водили хороводы с припевками, а святому по этой улочке заблагорассудилось пройти. И вот они увидели его и принялись дразнить святого отца своими припевками. Праведник же сотворил молитву, дабы их образумить, и по его молитве все они тотчас окосели... Тогда они принялись со слезами гоняться за ним и кричать: «Возьми слово назад, блаженненький, возьми слово назад», — ибо полагали, что он напустил на них косоглазие ворожбой. И вот они догнали его, силой остановили и упрашивали, чтобы он развязал свое заклятие. А он молвил им с усмешкою: «Которая из вас желает исцелиться, той я облобызаю окосевшее око, и исцелится». И тогда все, кому была воля божия исцелиться, допустили облобызать свое око; а прочие, которые не дались, так и остались окосевшими и плакали...» Эпизод заканчивается сентенцией юродивого: «Если бы господь не наслал на них косоглазия, из них вышли бы величайшие на всю Сирию срамницы, но по причине недуга очей своих они убереглись от множества зол». Более серьезным, но столь же жизненным характером отличается житие александрийского архиепископа Иоанна Милостивого, с которым Леонтия связывала личная дружба. Леонтий рисует своего героя как деятельного человеколюбца, которому обостренная совесть не позволяет пользоваться соответствующей его сану роскошью: «...Можно ли вымолвить, что Иоанн укрывается покровом в тридцать шесть золотых ценою, а его братья во Христе коченеют и зябнут? Сколь многие в это самое мгновение стучат зубами от холода, сколь многие располагают только соломкой; половину ее подстелят, половиной накроются и не могут ног вытянуть — так и дрожат, свернувшись клубком! Сколь многие ложатся спать в горах, без еды, без свечи, и страждут вдвойне от голода и от холода!..»
Литература Византии IV—VII в. отражает становление и утверждение христианской культуры, сопровождавшиеся борьбой с отголосками языческой античности. В этой сложной и противоречивой борьбе двух идеологий рождались новые жанры и стили, получившие развитие в последующую эпоху.
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'