ПОИСК:
Искусство Римской Империи.
«Без того фундамента, который
был заложен Грецией и Римом,
не было бы и современной Европы.»
Ф. Энгельс
 И у греков и у римлян было своё историческое призвание - они дополняли друг друга, и фундамент
современной Европы - их общее дело. В чем же заключался вклад каждого из этих великих народов?
И у греков и у римлян было своё историческое призвание - они дополняли друг друга, и фундамент
современной Европы - их общее дело. В чем же заключался вклад каждого из этих великих народов?
Вергилий даёт в «Энеиде» вполне откровенный и ясный ответ. Вот в переводе А.Фета
знаменательные строки поэмы, в течение веков вдохновлявшей римлян:
Одушевлённую медь пусть куют другие нежнее,
Также из мрамора пусть живые лики выводят,
Тяжбы лучше ведут, и также неба движенье
Тростью лучше чертят, и восход светил возвещают.
Ты же народы вести, о Римлянин, властью помни -
Вот искусства твои - налагать обычаи мира,
Подчинённых щадить и завоевывать гордых.
«Другие» - это, конечно, греки.
 Значит ли, однако, что только в делах государственных преуспел за свою долгую историю гордый и грозный Рим?
Значит ли, однако, что только в делах государственных преуспел за свою долгую историю гордый и грозный Рим?
Бессмертна латинская поэзия, и Вергилий в чём-то опровергает себя своей же поэмой. Но в зодчестве, в изобразительных искусствах можно ли говорить о вкладе Рима в мировую сокровищницу красоты? Можно, конечно, в силу известного положения о переходе количества в качество. Причём количество тут следует понимать и как масштабность творчества, вытекающую из новых устремлений, отличающих Рим от Эллады.
Не будем спорить с Вергилием: греки, несомненно, были лучшими ваятелями, больше дали науке, проявили себя более искусными в диалектике, чем римляне. Можно доказывать, что римское искусство всецело выросло из греческого. Однако художественное наследие Рима значило очень много в культурном фундаменте Европы. Более того, это наследие явилось едва ли не решающим для европейского искусства.
...В завоеванной Греции римляне вели себя вначале как варвары. В одной из своих сатир Ювенал показывает нам грубого римского воина тех времен, «ценить не умевшего художества греков», который «в доле добычной» разбивал «кубки работы художников славных» на мелкие куски, чтобы украсить ими свой щит или панцирь.
 А когда римляне прослышали о ценности произведений искусства, уничтожение сменилось
грабежом - повальным, повидимому, без всякого отбора. Из Эпира в Греции римляне вывезли
пятьсот статуй, а сломив еще до этого этрусков,- две тысячи из Вей. Вряд ли все это были одни шедевры.
А когда римляне прослышали о ценности произведений искусства, уничтожение сменилось
грабежом - повальным, повидимому, без всякого отбора. Из Эпира в Греции римляне вывезли
пятьсот статуй, а сломив еще до этого этрусков,- две тысячи из Вей. Вряд ли все это были одни шедевры.
Принято считать, что падением Коринфа в 146 г. до н.э. заканчивается собственно греческий период античной истории. Этот цветущий город на берегу Ионического моря, один из главных центров греческой культуры, был стёрт с лица земли солдатами римского консула Муммия. Из сожжённых дворцов и храмов консульские суда вывезли несметные художественные сокровища, так что, как пишет Плиний, буквально весь Рим наполнился статуями.
Прошло два столетия. Римские вельможи стали ревностными ценителями искусства. Коринф вновь украсился прекрасными памятниками.
В своем философическом романе «На белом камне» Анатоль Франс, очень тонко понимавший античность, переносит нас в Коринф времен императора Клавдия.
Галлирн, тогдашний проконсул Ахайи (так Греция официально именовалась в римскую эру), правитель благожелательный и гуманный (Такие оценки следует принимать с поправкой на время. В «Жизни двенадцати цезарей» римский историк Свегоний восхваляет «милосердие и гражданскую умеренность» императора Августа. Однако он же сообщает, что этот знаменитый император приказал заколоть у себя на глазах, как лазутчика и соглядатая, знатного римлянина, что-то записывавшего во время его речи; другого римского гражданина, тоже заподозренного им в злом умысле, пытал, как раба, и, не добившись ничего, казнил своими руками, выколов сперва ему глаза; в войсках, отступавших перед врагом, казнил каждого десятого и т. д.), славит в дружеской беседе «римский порядок», Pax Romana, т.е. мир, установленный Римом:
 «Сколько благодеяний принесла всему свету империя! По её милости города и деревни
вкушают полный покой. Моря очищены от пиратов, а дороги - от разбойников. От мглистого
океана до Пермулийского залива, от Гадеса до Евфрата торговля ограждена от каких-либо
опасностей. Закон охраняет жизнь и имущество населения. Права каждого человека защищены
от чьих бы то ни было посягательств. Отныне пределом свободы служат лишь требования
безопасности, и ограничивают свободу лишь для того, чтобы сделать её надёжной. Справедливость
и разум управляют миром».
«Сколько благодеяний принесла всему свету империя! По её милости города и деревни
вкушают полный покой. Моря очищены от пиратов, а дороги - от разбойников. От мглистого
океана до Пермулийского залива, от Гадеса до Евфрата торговля ограждена от каких-либо
опасностей. Закон охраняет жизнь и имущество населения. Права каждого человека защищены
от чьих бы то ни было посягательств. Отныне пределом свободы служат лишь требования
безопасности, и ограничивают свободу лишь для того, чтобы сделать её надёжной. Справедливость
и разум управляют миром».
Справедливость!.. При полном забвении всё того же «подвала», при доходящем до простодушия отношении к рабству как к явлению абсолютно нормальному, закономерному и вечному в человеческом обществе. И это несмотря на грозное восстание рабов, потрясшее ещё за тридцать лет до нашей эры римское государство, когда вождь их Спартак два года выдерживал натиск непобедимых римских легионов!
Благодеяния империи!.. Без ответа на вопрос, как их воспринимают покоренные народы и как оградить границы империи от тех, которые не желают ей покориться.
В Коринфе Галлион прогуливается по своей роскошной резиденции вместе с приближенными - Марком Лоллием и Луцием Кассием.
«Все опустились на мраморную скамью дугообразной формы с подпорами в виде грифонов. Лавры и мирты сплетали на ней свои тени. Вокруг кустарника возвышались статуи. Раненая амазонка в изнеможении обвивала согнутой рукой свою голову. На её прекрасном лице даже страдание казалось прекрасным. Косматый сатир забавлялся с козою. Венера, выходя из воды, вытирала влажные бёдра, по которым, чудилось, пробегает дрожь удовольствия. Неподалеку юный фавн, улыбаясь, подносил к губам флейту. Лоб у него был наполовину скрыт ветвями, но живот блестел полированным мрамором среди листвы.
- Этот фавн словно дышит, - заметил Марк Лоллий.- Так и кажется, что легкое дыхание вздымает ему грудь.
- Ты прав, Марк. Невольно ждёшь, что он извлечет из своей флейты незамысловатую мелодию,- сказал Галлион.- Греческий раб изваял его из мрамора по древнему образцу. Греки некогда были большими мастерами по части подобных пустячков. Многие их творения такого рода приобрели заслуженную известность. Всеми признано, что они умели придавать богам царственный облик и выражать в мраморе или бронзе величие владык мира. Кто не восторгается фидиевым Юпитером Олимпийцем? И, однако, кто хотел бы стать Фидием?
- Уж конечно, ни один римлянин не пожелает этого,- вскричал Лоллий, который растрачивал огромное наследство своих предков, заставляя привозить себе из Греции и Азии творения Фидия и Мирона: ими он украшал свою виллу...
Луций Кассий согласился с ним. Он решительно заявил, что руки свободного человека не предназначены держать резец скульптора или кисть живописца, и ни один римский гражданин не унизится до такой степени, чтобы плавить бронзу, ваять мрамор или рисовать изображения на стенах».
Тут же находился «плешивый человек с бородой Сократа, в коротком плаще философа; то был грек Аполлодор, который, подняв руку и шевеля пальцами, вёл разговор с самим собою».
Грек одобрил слова Луция Кассия:
«- Сыновья Иула (Иул - сын героя Энея, которого римляне считали своим предком) рождены,
чтобы править миром. Всякое иное занятие было бы их недостойно.
И он ещё долго в пышных выражениях превозносил римлян. Он льстил потому, что боялся их.
Но в душе испытывал лишь презрение к этим ограниченным и лишённым тонкости людям».
Не свидетельствуют ли приведенные нами стихи Вергилия не только о призвании римлян, но и об их гордыне, о вере их в своё превосходство, не всегда казавшейся обоснованной представителям более древних культур?
После длительных и кровавых распрей империя была основана внучатным племянником великого Цезаря Августом (63 г. до н.э. - 14 г. н.э.), первым утвердившим строй, при котором формально сохранялась республика (некогда сменившая в Риме царскую власть), но все важнейшие должности в государстве (консула, трибуна, верховного жреца и т.д.) сосредоточивались в одних руках императора.
Единодержавный повелитель республики, как и Цезарь, посмертно приравненный к богам!
Вот что пишет Светоний о деятельности «божественного Августа» по украшению Рима:
«Вид столицы ещё не соответствовал величию державы, Рим ещё страдал от наводнений и пожаров. Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным; и он сделал всё, что может предвидеть человеческий разум, для безопасности города на будущие времена.
Общественных зданий он выстроил очень много... Форум он начал строить, видя, что для толп народа и множества судебных дел уже недостаточно двух площадей... О храме Марса он дал обет во время филиппийской войны... и он постановил, чтобы здесь сенат принимал решения о войнах и триумфах, отсюда отправлялись в провинции военачальники, сюда приносили украшения триумфов полководцы, возвращаясь с победой. Святилище Аполлона он воздвиг в той части Палатинского дворца, которую, по словам гадателей, избрал себе бог ударом молнии, и к храму присоединил портики с латинской и греческой библиотекой; здесь на склоне лет он часто созывал сенат... Юпитеру Громовержцу он посвятил храм в память избавления от опасности, когда во время кантабрийской войны при ночном переходе молния ударила прямо перед его носилками и убила раба, который шёл с факелом. Некоторые здания он построил от чужого имени, от лица своих внуков, жены и сестры... Да и другим видным гражданам он настойчиво советовал украшать город...
Весь город он разделил на округа и кварталы... Для охраны от пожаров он расставил посты и ввёл ночную стражу, для предотвращения наводнений расширил и очистил русло Тибра... Чтобы подступы к городу стали легче со всех сторон, он взялся укрепить Фламиниеву дорогу... а остальные дороги распределил между триумфаторами, чтобы те вымостили их на деньги от военной добычи.
Священные постройки, рухнувшие от ветхости или уничтоженные пожарами, он восстановил и наравне с остальными украсил богатыми приношениями. Так, за один раз он принес в дар святилищу Юпитера Капитолийского шестнадцать тысяч фунтов золота (главным образом из египетской добычи; храмы считались наиболее удобными казнохранилищами) и на пятьдесят миллионов сестерциев жемчуга и драгоценных камней».
Итак, грандиозное строительство, вызванное грандиозными же свершениями некогда небольшого города-государства, чей волевой и холодно-расчётливый народ с твёрдым умом, не отягченным сомнениями, пожелал властвовать над другими - сперва подчинил себе соседей, затем расправился с таким грозным соперником, как Карфаген, и, наконец, утвердил своё полное господство в античном мире, знаменующее конечный этап в развитии рабовладельческого общества. Вскормленные волчицей основатели Рима могли бы гордиться делами своих наследников, воинов-триумфаторов, славу свою увенчавших беспримерной роскошью за счёт побеждённых.
Начала знаменитого римского права, начала римской государственности, равно как и римской архитектуры, всего римского искусства, восходят ко временам республики. Императорский Рим пожелал утвердить и развить эти начала в подлинно вселенском масштабе.
Благоустройство великого города и всей великой империи - такова была первейшая задача Августа, мудрость которого как правителя ставилась в пример римскими летописцами. Благоустройство и культурный расцвет. В римской истории век Августа имел для культуры такое же значение, как в греческой век Перикла. Величайшие латинские поэты Гораций, Виргилий и Овидий озаряют этот век своим гением, возвеличивают славу Августа, который покровительствовал литературе как по природному влечению, так и по расчёту.
Век Августа был отмечен и расцветом искусств, продолжавшимся при его ближайших преемниках, питаясь наследием греческой классики.
...Девять грандиозных акведуков снабжали водой императорский Рим. Римский писатель Юлий Фронтин уверенно заявляет, что нельзя сравнивать их «каменные громады с бесполезными пирамидами Египта или с самыми прославленными, но праздными сооружениями греков».
В этих словах - ключ к пониманию едва ли не главного стимула римского искусства.
 Культ полезности, даже пафос. Во имя государства! Ибо пафос Рима имел очень конкретную основу;
то был не пафос борьбы со смертью, как у египтян, не пафос борьбы со Зверем, как во многих древних
цивилизациях, не пафос красоты, облагораживающий мир, как в Элладе, то был, как мы видели,
пафос государственности, перерастающий в пафос мирового господства. Владычество как самоцель.
Грандиозные вожделения, не устремленные ввысь. Нужным, полезным было лишь то, что удовлетворяло
таким вожделениям, будь то акведук, из окрестных гор доставляющий живительную влагу в столицу мира,
или триумфальная арка, вдохновляющая на новые ратные подвиги «сыновей Иула».
Культ полезности, даже пафос. Во имя государства! Ибо пафос Рима имел очень конкретную основу;
то был не пафос борьбы со смертью, как у египтян, не пафос борьбы со Зверем, как во многих древних
цивилизациях, не пафос красоты, облагораживающий мир, как в Элладе, то был, как мы видели,
пафос государственности, перерастающий в пафос мирового господства. Владычество как самоцель.
Грандиозные вожделения, не устремленные ввысь. Нужным, полезным было лишь то, что удовлетворяло
таким вожделениям, будь то акведук, из окрестных гор доставляющий живительную влагу в столицу мира,
или триумфальная арка, вдохновляющая на новые ратные подвиги «сыновей Иула».
Хоть и с латинскими именами, боги Рима были те же, что боги Эллады. Мы уже знаем по рассказу Светония, как Август сочетал храмовое строительство во славу этих богов с пользой для дел государственных.
Греция и Этрурия одарили Рим своими достижениями в зодчестве, из всех искусств для него наиболее необходимом в его созидательном порыве.
А порыв этот был подлинно величественным по своему размаху.
Для растущих городов империи требовались все новые форумы, где в важные дни собирался народ; доходные жилые дома в несколько этажей; просторные портики, разделённые продольными рядами колонн, именуемые базиликами, где заседали судьи и шла торговля; грандиозные амфитеатры (как знаменитый римский Колизей), вмещающие десятки тысяч зрителей, где насмерть бились гладиаторы и где христиан отдавали хищникам на растерзание; термы - роскошные бани, часто служившие средоточием общественной жизни, - с огромными плавательными бассейнами, площадками для физических упражнений и... обширными библиотеками; монументы, прославляющие императоров и победы римских легионов.
Все эти сооружения прекрасно отвечали своему назначению, выражали в то время последнее слово техники, и их несколько тяжёлая величавость отличала зародившийся римский стиль от его эллинского прообраза. То было умелое развитие уже найденных архитектурных форм в соответствии с новыми потребностями.
Даже в развалинах, даже без статуй, некогда его украшавших, дышит несокрушимой мощью Колизей...
А так как покорённые народы, будь то варвары, греки или иудеи, должны были зримо ощущать непоколебимое превосходство Рима, по всей необъятной империи воздвигались памятники, поражавшие воображение своей грандиозностью и своей пышностью, порой даже чрезмерной.
В поисках величавости, сочетающейся с ясностью замысла, римское зодчество сумело создать на греческих образцах нечто своё, оставившее глубокий след вплоть до наших дней.
 Греки и этруски знали арку и свод. Но только в Риме эти архитектурные формы, преодолевающие
исконную античную прямоугольность, получили законченное развитие: в Риме кривая уже соперничает с прямой.
Греки и этруски знали арку и свод. Но только в Риме эти архитектурные формы, преодолевающие
исконную античную прямоугольность, получили законченное развитие: в Риме кривая уже соперничает с прямой.
Триумфальная арка, запечатлевающая церемонию триумфа, то есть въезд победоносного полководца в Рим,- одно из самых замечательных новшеств римского зодчества.
Трудно представить себе памятник, торжественнее воспевающий в камне такой въезд триумфатора в столицу на колеснице, запряжённой белыми конями, с орленым скипетром в руке, в золотом венце, поддерживаемого сзади стоящим рабом, с сокровищами, захваченными у врагов, и пленниками в оковах, чем арка императора Тита, воздвигнутая в I в. н.э. после разрушения храма Соломона в Иерусалиме, в память победы над непокорными иудеями. Вот откуда ведут свой древний род все триумафальные арки нынешних европейских столиц.
 Большинство архитекторов императора Адриана (начало II в. н.э.), при котором империя украсилась
многими замечательными памятниками, были греками или выходцами из эллинизированного Востока.
Он сам это признаёт в письме к своему другу писателю Плинию Младшему. В более ранние времена
знаменитый оратор Цицерон, прозванный «Отцом отечества», тоже поручил греку строительство
своей виллы. Однако в истории искусства здания, построенные греками для римлян, считаются
произведениями не греческой, а римской архитектуры. Это вполне справедливо. Ведь было бы,
например, нелепо исключать из великого наследия русской архитектуры собор Московского Кремля,
воздвигнутый в чисто русском стиле итальянцем, или петербургский дворец, строитель которого был
не русского происхождения.
Большинство архитекторов императора Адриана (начало II в. н.э.), при котором империя украсилась
многими замечательными памятниками, были греками или выходцами из эллинизированного Востока.
Он сам это признаёт в письме к своему другу писателю Плинию Младшему. В более ранние времена
знаменитый оратор Цицерон, прозванный «Отцом отечества», тоже поручил греку строительство
своей виллы. Однако в истории искусства здания, построенные греками для римлян, считаются
произведениями не греческой, а римской архитектуры. Это вполне справедливо. Ведь было бы,
например, нелепо исключать из великого наследия русской архитектуры собор Московского Кремля,
воздвигнутый в чисто русском стиле итальянцем, или петербургский дворец, строитель которого был
не русского происхождения.
Дух Рима отличен от духа Эллады. Римское зодчество решало новые, Риму присущие задачи, которые и определяют сущность римского строительного искусства, какова бы ни была национальность того или иного зодчего. Так, главный архитектор Адриана грек Аполлодор из Дамаска был создателем Пантеона, который следует признать не только величайшим шедевром римской архитектуры, но и достижением всемирно-исторического значения.
 Пантеон - это храм всех богов, покровителей императорского дома, прославляющий гордую
объединительную мечту империи, включающей под римским главенством столько различных
национальностей, верований и культур.
Пантеон - это храм всех богов, покровителей императорского дома, прославляющий гордую
объединительную мечту империи, включающей под римским главенством столько различных
национальностей, верований и культур.
Величавая мощь, изнутри озаренная ярким светом, - вот, пожалуй, идея, воплощённая в архитектуре этого храма, к счастью сравнительно хорошо сохранившегося.
Пантеон - самый значительный по размерам римский купольный храм. Ни до, ни после в античном мире не сооружались такие грандиозные купольные своды. Диаметр круглого здания - 43,5 метра - равен его высоте. Чтобы поддержать такую громаду, потребовались массивные стены, толщина которых достигает шести метров. И это придает внешнему облику Пантеона некоторую тяжеловесность, которая искупается небывалым простором, открывающимся перед изумленным посетителем внутри храма. Подлинно - царство света! Свет льётся сверху из девятиметрового отверстия в куполе - знаменитого «окна Пантеона». Под светом, падающим с неба, посетитель воспринимает весь этот величественный простор, обрамлённый роскошной архитектурой, словно частицу вселенной, здесь собранную под сводами храма.
Греция не знала этого сферического охвата пространства, а Европа позднейших времен узнала благодаря Риму.
 Римляне не только навезли великое множество греческих статуй (кроме того, они привозили и египетские
обелиски), но, как мы видели, в самых широких масштабах копировали греческие оригиналы. И уже за
одно это мы должны им быть признательны. В чём же, однако, заключался собственно римский вклад
в искусство ваяния? Вокруг ствола колонны Траяна, воздвигнутой в начале II в. до н.э. на форуме Траяна,
над самой могилой этого императора, вьётся широкой лентой рельеф, прославляющий его победы
над даками, царство которых (нынешняя Румыния) было наконец завоёвано римлянами. Художники,
выполнившие этот рельеф, были, несомненно, не только талантливы, но и хорошо знакомы с приёмами
эллинистических мастеров. И всё же это - типичное римское произведение.
Римляне не только навезли великое множество греческих статуй (кроме того, они привозили и египетские
обелиски), но, как мы видели, в самых широких масштабах копировали греческие оригиналы. И уже за
одно это мы должны им быть признательны. В чём же, однако, заключался собственно римский вклад
в искусство ваяния? Вокруг ствола колонны Траяна, воздвигнутой в начале II в. до н.э. на форуме Траяна,
над самой могилой этого императора, вьётся широкой лентой рельеф, прославляющий его победы
над даками, царство которых (нынешняя Румыния) было наконец завоёвано римлянами. Художники,
выполнившие этот рельеф, были, несомненно, не только талантливы, но и хорошо знакомы с приёмами
эллинистических мастеров. И всё же это - типичное римское произведение.
 Перед нами подробнейшее и добросовестное повествование. Именно повествование, а не обобщённое
изображение. В греческом рельефе рассказ о реальных событиях подавался аллегорически, обычно
переплетался с мифологией. В римском же рельефе ещё со времен республики ясно видно стремление
как можно точнее, конкретнее передать ход событий в его логической последовательности вместе с
характерными чертами участвовавших в них лиц. В рельефе колонны Траяна мы видим римские и варварские
лагеря, приготовления к походу, штурмы крепостей, переправы, беспощадные бои. Всё как будто
действительно очень точно: типы римских воинов и даков, оружие их и одежда, вид укреплений - так что
этот рельеф может служить как бы скульптурной энциклопедией тогдашнего военного быта. Общим
своим замыслом вся композиция скорее напоминает уже известные нам рельефные повествования
бранных подвигов ассирийских царей, однако с меньшей изобразительной мощью, хотя и с лучшим
знанием анатомии и от греков идущим умением свободнее располагать фигуры в пространстве. Низкий
рельеф, без пластического выявления фигур, возможно, навеянный несохранившимися живописными
образцами. Изображения самого Траяна повторяются не менее девяноста раз, лица воинов чрезвычайно
выразительны.
Перед нами подробнейшее и добросовестное повествование. Именно повествование, а не обобщённое
изображение. В греческом рельефе рассказ о реальных событиях подавался аллегорически, обычно
переплетался с мифологией. В римском же рельефе ещё со времен республики ясно видно стремление
как можно точнее, конкретнее передать ход событий в его логической последовательности вместе с
характерными чертами участвовавших в них лиц. В рельефе колонны Траяна мы видим римские и варварские
лагеря, приготовления к походу, штурмы крепостей, переправы, беспощадные бои. Всё как будто
действительно очень точно: типы римских воинов и даков, оружие их и одежда, вид укреплений - так что
этот рельеф может служить как бы скульптурной энциклопедией тогдашнего военного быта. Общим
своим замыслом вся композиция скорее напоминает уже известные нам рельефные повествования
бранных подвигов ассирийских царей, однако с меньшей изобразительной мощью, хотя и с лучшим
знанием анатомии и от греков идущим умением свободнее располагать фигуры в пространстве. Низкий
рельеф, без пластического выявления фигур, возможно, навеянный несохранившимися живописными
образцами. Изображения самого Траяна повторяются не менее девяноста раз, лица воинов чрезвычайно
выразительны.
Вот эта же конкретность и выразительность составляют отличительную черту всей римской портретной скульптуры, в которой, пожалуй, сильнее всего проявилось своеобразие римского художественного гения.
 Вернёмся к значению Рима в мировой культуре. Чисто римская доля, внесенная в её сокровищницу,
прекрасно определена (как раз в связи с римским портретом) крупнейшим советским знатоком
античного искусства О.Ф. Вальдгауэром: «...Рим есть как индивидуальность; Рим есть в тех строгих
формах в которых возродились под его владычеством древние образы;
Вернёмся к значению Рима в мировой культуре. Чисто римская доля, внесенная в её сокровищницу,
прекрасно определена (как раз в связи с римским портретом) крупнейшим советским знатоком
античного искусства О.Ф. Вальдгауэром: «...Рим есть как индивидуальность; Рим есть в тех строгих
формах в которых возродились под его владычеством древние образы;
Рим есть в том великом организме, который разнёс семена античной культуры, давая им возможность оплодотворить новые, ещё варварские народы, и, наконец, Рим есть в создании цивилизованного мира на основании культурных эллинских элементов и, видоизменяя их, сообразно с новыми задачами, только Рим и мог создать... великую эпоху портретной скульптуры...»
Ту эпоху, о которой сейчас будет речь.
 Римский портрет имеет сложную предысторию. Его связь с этрусским портретом очевидна,
равно как и с эллинистическим. Римский корень тоже вполне ясен: первые римские портретные
изображения в мраморе или бронзе были всего лишь точным воспроизведением восковой маски,
снятой с лица умершего. Это ещё не было искусство.
Римский портрет имеет сложную предысторию. Его связь с этрусским портретом очевидна,
равно как и с эллинистическим. Римский корень тоже вполне ясен: первые римские портретные
изображения в мраморе или бронзе были всего лишь точным воспроизведением восковой маски,
снятой с лица умершего. Это ещё не было искусство.
В последующие времена точность сохранилась в основе римского художественного портрета. Точность, окрылённая творческим вдохновением и замечательным мастерством. Наследие греческого искусства тут, конечно, сыграло свою роль. Но можно сказать без преувеличения: доведённое до совершенства искусство ярко индивидуализированного портрета, полностью обнажающего внутренний мир данного человека, - это, по существу, римское достижение. Во всяком случае, по размаху творчества, по силе и глубине психологического проникновения.
В римском портрете раскрывается перед нами дух древнего Рима во всех его аспектах и противоречиях. Римский портрет - это как бы сама история Рима, рассказанная в лицах, история его небывалого возвышения и трагической гибели: «вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами» (Герцен). Посоветуем же читателю внимательно осмотреть римские залы нашего Эрмитажа, обладающего ценнейшим собранием римской портретной скульптуры.
...Среди римских императоров были благородные личности, крупнейшие государственные деятели, были и алчные честолюбцы, были изверги, деспоты, обезумевшие от безграничной власти и в сознании, что им всё дозволено, пролившие море крови, были сумрачные тираны, убийством предшественника достигшие высшего сана и потому уничтожавшие каждого, кто внушал им малейшее подозрение. Как мы видели, нравы, рождённые обожествляемым единодержавием, подчас толкали даже наиболее просвещённых на самые жестокие деяния.
В период наибольшего могущества империи крепко организованный рабовладельческий строй, при котором жизнь невольника ставилась в ничто и с ним обращались, как с рабочей скотиной, накладывал свой отпечаток на мораль и на быт не только императоров и вельмож, но и рядовых граждан. И вместе с тем поощряемое пафосом государственности возрастало стремление к упорядочению на римский лад социальной жизни во всей империи, с полной уверенностью, что более прочного и благотворного строя быть не может. Но эта уверенность оказалась несостоятельной. Непрерывные войны, междоусобные распри, восстания провинций, бегство рабов, растущее сознание бесправия с каждым веком все более подтачивали фундамент «римского мира». Покорённые провинции всё решительнее проявляли свою волю. И в конце концов они подорвали объединяющую власть Рима. «Провинции уничтожили Рим; Рим сам превратился в провинциальный город, подобный другим, привилегированный, но уже не господствующий более, переставший быть центром мировой империи... Римское государство превратилось в гигантскую сложную машину исключительно для высасывания соков из подданных» ( К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 21, стр 147.) (Ф. Энгельс).
 Идущие с Востока новые веяния, новые идеалы, поиски новой правды рождали новые верования.
Наступал закат Рима, закат античного мира с его идеологией и социальным укладом. «Во время...
всеобщего экономического, политического, интеллектуального и морального разложения и
выступило христианство» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 19, стр. 313.) (Ф. Энгельс) с его
проповедью братства и равенства, обращенной ко всем «страждущим и обременённым».
Идущие с Востока новые веяния, новые идеалы, поиски новой правды рождали новые верования.
Наступал закат Рима, закат античного мира с его идеологией и социальным укладом. «Во время...
всеобщего экономического, политического, интеллектуального и морального разложения и
выступило христианство» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 19, стр. 313.) (Ф. Энгельс) с его
проповедью братства и равенства, обращенной ко всем «страждущим и обременённым».
А между тем, чуя, что силы ее слабеют, на империю всё упорнее и яростнее наседали варвары...
Да, всё это нашло своё отражение в римской портретной скульптуре.
...Во времена республики, когда нравы были суровее и проще, документальная точность изображения, так называемый «веризм» (от слова verus - истинный), не уравновешивалась ещё греческим облагораживающим влиянием. Это влияние проявилось в век Августа, подчас даже с ущербом для правдивости.
Знаменитая статуя Августа во весь рост, где он показан во всей пышности императорской власти и воинской славы (статуя из Прима-Порта. Рим, Ватикан), равно как и сидящее его изображение в виде самого Юпитера (Эрмитаж), конечно, идеализированные парадные портреты, приравнивающие земного владыку к небожителям. И всё же в них выступают индивидуальные черты Августа, относительная уравновешенность и несомненная значительность его личности.
 Идеализированы и многочисленные портреты преемника его - Тиберия. Об этом императоре,
удалившимся под старость на остров Капри, ходил такой стишок:
Идеализированы и многочисленные портреты преемника его - Тиберия. Об этом императоре,
удалившимся под старость на остров Капри, ходил такой стишок:
Он позабыл про вино, охваченный жаждою крови:
Он упивается ею так же, как раньше вином.
И.А.Бунин, рассказывая в одном из лучших своих произведений («Господин из Сан-Франциско») о богачах капиталистического мира, приезжающих на Капри, посвятил Тиберию такие строки:
«На этом острове, две тысячи лет назад, жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьёт его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры, - и человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей, столь же непонятно и по существу столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъёмов острова».
 Посмотрим на скульптурный портрет Тиберия в молодые годы (Копенгаген, Глиптотека).
Облагороженный образ. И в то же время, безусловно, индивидуальный. Что-то несимпатичное,
брюзгливо замкнутое проглядывает в его чертах. Быть может, поставленный в иные условия,
этот человек внешне вполне пристойно прожил бы свою жизнь. Но животный страх и ничем
не ограниченная власть!., И кажется нам, что художник запечатлел в образе его нечто такое,
чего не распознал даже проницательный Август, назначая Тиберия своим преемником.
Посмотрим на скульптурный портрет Тиберия в молодые годы (Копенгаген, Глиптотека).
Облагороженный образ. И в то же время, безусловно, индивидуальный. Что-то несимпатичное,
брюзгливо замкнутое проглядывает в его чертах. Быть может, поставленный в иные условия,
этот человек внешне вполне пристойно прожил бы свою жизнь. Но животный страх и ничем
не ограниченная власть!., И кажется нам, что художник запечатлел в образе его нечто такое,
чего не распознал даже проницательный Август, назначая Тиберия своим преемником.
 Но уже полностью разоблачителен при всей своей благородной сдержанности портрет
преемника Тиберия - Калигулы (Копенгаген, Глиптотека), убийцы и истязателя, в конце
концов заколотого своим приближённым. Жуток его пристальный взгляд, и чувствуешь,
что не может быть пощады от этого совсем молодого властителя (он закончил двадцати
девяти лет свою страшную жизнь) с наглухо сжатыми губами, любившего напоминать,
что он может сделать всё что угодно и с кем угодно. Верим мы, глядя на портрет Калигулы,
всем рассказам о его бесчисленных злодеяниях. «Отцов он заставлял присутствовать
при казни сыновей, - пишет Светоний, - за одним из них он послал носилки, когда тот
попробовал уклониться по нездоровью; другого он тотчас после зрелища казни пригласил
к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться». А другой римский
историк, Дион, добавляет, что, когда отец одного из казнимых «спросил, можно ли ему хотя
бы закрыть глаза, он приказал умертвить и отца». И ещё у Светония: «Когда вздорожал
скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание
преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чём виноват, а прямо
приказывал, стоя в дверях, забирать всех...» Зловеще в своей двусмысленности низколобое
лицо Нерона, самого знаменитого из венценосных извергов древнего Рима
(Мрамор. Рим, Национальный музей).
Но уже полностью разоблачителен при всей своей благородной сдержанности портрет
преемника Тиберия - Калигулы (Копенгаген, Глиптотека), убийцы и истязателя, в конце
концов заколотого своим приближённым. Жуток его пристальный взгляд, и чувствуешь,
что не может быть пощады от этого совсем молодого властителя (он закончил двадцати
девяти лет свою страшную жизнь) с наглухо сжатыми губами, любившего напоминать,
что он может сделать всё что угодно и с кем угодно. Верим мы, глядя на портрет Калигулы,
всем рассказам о его бесчисленных злодеяниях. «Отцов он заставлял присутствовать
при казни сыновей, - пишет Светоний, - за одним из них он послал носилки, когда тот
попробовал уклониться по нездоровью; другого он тотчас после зрелища казни пригласил
к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться». А другой римский
историк, Дион, добавляет, что, когда отец одного из казнимых «спросил, можно ли ему хотя
бы закрыть глаза, он приказал умертвить и отца». И ещё у Светония: «Когда вздорожал
скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание
преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чём виноват, а прямо
приказывал, стоя в дверях, забирать всех...» Зловеще в своей двусмысленности низколобое
лицо Нерона, самого знаменитого из венценосных извергов древнего Рима
(Мрамор. Рим, Национальный музей).
 Стиль римского скульптурного портрета менялся вместе с общим мироощущением эпохи.
Документальная правдивость, парадность, доходящая до обожествления, самый острый реализм,
глубина психологического проникновения поочерёдно преобладали в нём, а то и дополняли друг друга.
Но пока была жива римская идея, в нём не иссякала изобразительная мощь.
Стиль римского скульптурного портрета менялся вместе с общим мироощущением эпохи.
Документальная правдивость, парадность, доходящая до обожествления, самый острый реализм,
глубина психологического проникновения поочерёдно преобладали в нём, а то и дополняли друг друга.
Но пока была жива римская идея, в нём не иссякала изобразительная мощь.
Император Адриан заслужил славу мудрого правителя; известно, что он был просвещённым ценителем искусства, ревностным почитателем классического наследия Эллады. Черты его, высеченные в мраморе, вдумчивый взгляд вместе с лёгким налётом печали дополняют наше представление о нём, как дополняют наше представление о Каракалле портреты его, подлинно запечатляющие квинтэссенцию звериной жестокости, самой необузданной, насильнической власти. Зато истинным «философом на престоле», мыслителем, исполненным душевного благородства, предстает Марк Аврелий, проповедовавший в своих писаниях стоицизм, отрешение от земных благ.
Подлинно незабываемые по своей выразительности образы! Но римский портрет воскрешает перед нами не только образы императоров.
 Остановимся в Эрмитаже перед портретом неизвестного римлянина, исполненным, вероятно,
в конце I в. н.э. Это несомненный шедевр, в котором римская точность изображения сочетается
с традиционным эллинским мастерством, документальность образа - с внутренней одухотворённостью.
Мы не знаем, кто автор портрета - грек ли, отдавший Риму с его мироощущением и вкусами своё
дарование, римлянин или какой иной художник, императорский подданный, вдохновившийся
греческими образцами, но крепко вросший в римскую землю, - как неведомы авторы
(в большинстве, вероятно, рабы) и других замечательных изваяний, созданных в римскую эру.
Сугубо анонимное творчество, с проблесками гениальности. Поразительно живой образ! Уже
пожилой человек, много видевший на своём веку и много переживший, в котором угадываешь
какое-то щемящее страдание, быть может, от глубоких раздумий. Образ настолько реален,
правдив, выхвачен так цепко из гущи людской и так искусно выявлен в своей общечеловеческой
сущности, что кажется нам, мы встречали этого римлянина, знакомы с ним, вот именно почти
так - пусть и неожиданно наше сравнение, - как знаем мы, например, героев толстовских романов.
Остановимся в Эрмитаже перед портретом неизвестного римлянина, исполненным, вероятно,
в конце I в. н.э. Это несомненный шедевр, в котором римская точность изображения сочетается
с традиционным эллинским мастерством, документальность образа - с внутренней одухотворённостью.
Мы не знаем, кто автор портрета - грек ли, отдавший Риму с его мироощущением и вкусами своё
дарование, римлянин или какой иной художник, императорский подданный, вдохновившийся
греческими образцами, но крепко вросший в римскую землю, - как неведомы авторы
(в большинстве, вероятно, рабы) и других замечательных изваяний, созданных в римскую эру.
Сугубо анонимное творчество, с проблесками гениальности. Поразительно живой образ! Уже
пожилой человек, много видевший на своём веку и много переживший, в котором угадываешь
какое-то щемящее страдание, быть может, от глубоких раздумий. Образ настолько реален,
правдив, выхвачен так цепко из гущи людской и так искусно выявлен в своей общечеловеческой
сущности, что кажется нам, мы встречали этого римлянина, знакомы с ним, вот именно почти
так - пусть и неожиданно наше сравнение, - как знаем мы, например, героев толстовских романов.
 И та же убедительность в другом эрмитажном шедевре, мраморном портрете молодой женщины,
условно названной по типу лица «Сириянкой».
И та же убедительность в другом эрмитажном шедевре, мраморном портрете молодой женщины,
условно названной по типу лица «Сириянкой».
Это уже вторая половина II в. н.э.: изображенная женщина - современница императора Марка Аврелия.
Мы знаем, что то была эпоха переоценки ценностей, усилившихся восточных влияний, новых романтических настроений, зреющего мистицизма, предвещавших кризис римской великодержавной гордыни. «Время человеческой жизни - миг, - писал Марк Аврелий, - её сущность - вечное течение; ощущение смутно; строение всего тела - бренно; душа - неустойчива; судьба - загадочна; слава - недостоверна».
Меланхолической созерцательностью, характерной для многих портретов этого времени, дышит образ «Сириянки». Но её задумчивая мечтательность - мы чувствуем это - глубоко индивидуальна, и опять-таки она сама кажется нам давно знакомой, чуть ли даже не родной, так жизненно резец ваятеля изощрённой работой извлёк из белого мрамора с нежным голубоватым отливом её чарующие и одухотворённые черты.
 А вот опять император, но император особый: Филипп Араб, выдвинувшийся в разгар кризиса III в. -
кровавой «императорской чехарды» - из рядов провинциального легиона. Это его официальный
портрет. Тем более знаменательна солдатская суровость образа: то было время, когда во всеобщем
брожении войско стало последним оплотом императорской власти.
А вот опять император, но император особый: Филипп Араб, выдвинувшийся в разгар кризиса III в. -
кровавой «императорской чехарды» - из рядов провинциального легиона. Это его официальный
портрет. Тем более знаменательна солдатская суровость образа: то было время, когда во всеобщем
брожении войско стало последним оплотом императорской власти.
Нахмуренные брови. Грозный, настороженный взгляд. Тяжёлый, мясистый нос. Глубокие морщины щёк, образующие как бы треугольник с резкой горизонталью толстых губ. Могучая шея, а на груди - широкая поперечная складка тоги, окончательно придающая всему мраморному бюсту подлинно гранитную массивность, лаконическую крепость и цельность.
Вот что пишет Вальдгауэр об этом замечательном портрете, тоже хранящемся в нашем Эрмитаже: «Техника упрощена до крайности... Черты лица выработаны глубокими, почти грубыми линиями с полным отказом от детальной моделировки поверхности. Личность, как таковая, охарактеризована беспощадно с выделением самых важных черт».
Новый стиль, по-новому достигаемая монументальная выразительность. Не есть ли это влияние так называемой варварской периферии империи, всё сильнее проникающее через провинции, ставшие соперницами Рима?
В общем стиле бюста Филиппа Араба Вальдгауэр распознаёт черты, которые получат полное развитие в средневековых скульптурных портретах французских и германских соборов.
Что за чудо случилось? Источников чистых просили
Мы у тебя, земля,- что же нам шлёшь из глубин?
Или есть жизнь под землёй? Иль живёт под лавою тайно
Новое племя? Иль нам прошлое возвращено?
Римляне, греки, глядите: открыты снова Помпеи,
Город Геракла воскрес в древней своей красоте!
Этими стихами выразил Шиллер восторженное изумление Европы XVIII в., когда были частично раскопаны античные города Геркуланум (город Геракла), Помпеи и Стабия. Внезапное извержение Везувия в 79 г. н.э. пресекло в них всякую жизнь, но оно же уберегло для потомства весь её декорум.
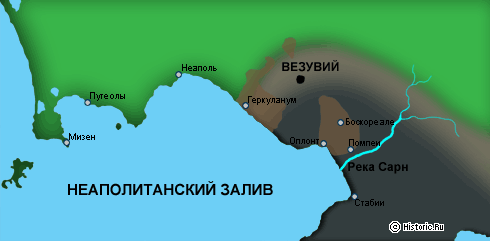
Страшная гроза сопровождала извержение, потоки дождя увлекли раскалённый пепел, который, высыхая, образовал массу, твердую как камень, подчас толщиной в десять метров. Эта масса покрыла останки людей, застигнутых в бегстве, а то и среди обычных занятий, и она же «законсервировала» жилища со статуями, росписями, мозаикой и предметами домашнего обихода. Многое было повреждено, но, не случись такого несчастья, войны, смена культур и само беспощадное время расправилось бы куда решительнее с этими цветущими маленькими городами на берегу Неаполитанского залива, одного из красивейших в мире, куда приезжали отдыхать богатые римляне.
«В тени порфирных бань и мраморных палат вельможи римские встречали свой закат» (Пушкин). Но в погибших городах было и постоянное население (двадцать тысяч жителей в Помпеях), были ремесленники и рабы, которые обслуживали вельмож.
«Я затрудняюсь назвать какое-либо явление, которое было бы более интересным...» - сказал Гёте. И в самом деле, невиданная катастрофа, с её бесчисленными жертвами, позволила нам составить себе исключительно полное и яркое представление о жизни людей того времени.
 Чтобы иллюстрировать эту жизнь, мы приведём прекрасный отрывок из уже упомянутой нами книги
П.П. Муратова «Образы Италии», написанной в начале нынешнего века:
Чтобы иллюстрировать эту жизнь, мы приведём прекрасный отрывок из уже упомянутой нами книги
П.П. Муратова «Образы Италии», написанной в начале нынешнего века:
«Чувство камня, одно из важнейших чувств античного существования, можно испытать на улицах Помпеи с необычайной силой. И жар солнца также нигде не ощущается острее, чем на этих каменных улицах. Нынешняя Помпеи (так писали в то время) почти лишена прохлады, но заботу о тени выдаёт каждая руина помпейского дома, помпейского двора. Под этим безоблачным небом тень была неизменной спутницей дней античного человека, первым чудом мира, открывавшимся глазам античного ребёнка. Она провела по своей полосе длинные прямые улицы, очертила овалы театров и квадраты перистилей (прямоугольных дворов, окруженных колоннадой - Лев Любимов), легла в каннелюрах колонн, нарисовала все подробности их антаблементов. Её скользящая жизнь одна не отлетела и ныне от стен и уличных плит Помпеи.
Архитектурность помпейских жилищ слилась таким образом с воздушной игрой света и тени. В тени выступал природный синий или золотистый отлив камня, но он исчезал на солнце, растворяясь в сверкающей белизне кампанийского летнего полдня. Желание дать отдых глазам привело к раскраске стен и колонн внутри атриумов и перистилей. Улица, впрочем, осталась неокрашенной, и никакое резкое пятно цвета не гасило на ней блеск голубоватых далей.
Помпеянин не медлил на улице, его жизнь вне дома протекала на обширных форумах, в термах, в театрах. И важнее этой жизни, так определённо общественной, была для него замкнутая стенами домашняя жизнь. Любовь к дому строила Помпеи.
Никогда после того человек не располагал так забот и радостей существования по клеточкам своего жилища. План помпейского дома поражает стремлением разделить как можно меньше пространства и как можно теснее связать между собой все деления. Нас удивляют маленькие размеры помпейских комнат, но не более ли удивительно, что в иных домах число комнат доходило до шестидесяти. Среди этих бесчисленных спален и столовых, различие между которыми мог понять только взор домолюбивого хозяина, тянулись внутренние дворы - полуоткрытый атриум и совсем открытый перистиль. С изумительной правильностью они повторяются во всех помпейских домах, так же как повторяются на улицах города совершенно одинаковые водоёмы, одинаковые углы, прилавки. Правильность и порядок, таким образом, царили на улицах и внутри жилищ. Добрая воля античного человека ввела их в жизнь семьи. Дела этой жизни текли, несомненно, с правильностью религиозного обряда... Иногда кажется, что только благодаря стройному порядку домов и улиц, благодаря этой твердости всяческих форм Помпеи сохранилась так хорошо под пеплом Везувия. Открытая из-под земли античность не ослепила новых людей невиданными сокровищами. Она принесла с собой в мир лишь новое чувство отдыха - точно былая приветливость, былое гостеприимство украшенного помпейского дома действительно воскресли среди развалин. Один за другим обходит эти дома путешественник, не раз сожалея о бесчисленных предметах быта и остатках живописи, перенесенных в Неаполитанский музей. Долгое время наука странным образом довершала опустошение города, и только с недавних пор здесь стали оставлять всё найденное на самом месте находки. Для верного понятия о помпейском доме достаточно видеть благодаря этому два больших дома, открытых в течение последних пятнадцати лет, - дом Веттиев и дом «Amorini dorati» (дом «Золочёных амуров». — Лев Любимоп). Целые стены разнообразной и отлично сохранившейся живописи видны в доме Веттиев. Висящие маски, скульптурные фрагменты в перистиле «Amorini dorati» остаются одним из прекраснейших воспоминаний о Помпеи. Не главное место в ряду этих воспоминаний занимает живопись. Запоминается чаще всего её фон - красный, чёрный или жёлтый, обнаруживающий необычайную силу и чистоту цвета. Волшебными кажутся маленькие летящие фигурки на таком черном фоне в доме Веттиев. Здесь почти слышишь тонкое жужжание полёта этих крошечных гениев помпейского воздуха. В других местах, и таких большинство, живопись падает до плохой иллюстрации. Есть что-то не от искусства в рассказе помпейской живописи, и редко она похожа на дело художника. О великой художественной традиции говорят лишь цветные фоны, орнаменты, или гипсы на потолке терм. Рядом с этим мифология и жанр помпейских фресок кажутся работой ремесленника, следовавшего за желанием дилетанта.
Из всех искусств тут более всего привлекает воображение искусство жизни. С возрастающим изумлением мы угадываем здесь в одно и то же время бедность и изысканность жизненного обихода, суровость и нежность нравов. Умение жить деятельно в строгой архитектуре улиц и площадей согласуется с умением отдыхать созерцательно среди цветов и маленьких деревьев своего перистиля. Глубокая домашняя набожность, любовь к предкам и детям сочетаются с бесстыдством эротических картин... Не двойственным существом был вместивший все это античный человек. Двойным в сравнении с нашим был только его объём природных сил, и, может быть, в смутном чаянии столь щедрого дара стекаются иностранцы к воротам нынешней Помпеи. Точно в самом её солнце и воздухе ещё остались искры древней живительной силы.
В Помпеи долго не замечаешь усталости. Не утомляет зрелище её улиц, таких простых, прямых, неразнообразных. Прекрасный вид открывался когда-то с верхних ступеней театра, с треугольного форума... За городом, на улице гробниц, есть одна гробница, построенная в виде полукруглой мраморной скамьи по прекрасному замыслу покоящейся там помпеянки Мамии. Немало путников, проходивших по большой дороге, отдыхало на этой скамье, ведя тихие беседы, поминая добрым словом умершую. Тень Мамии присутствовала тогда среди них, занимая одно из мест полукруглой скамьи, слушая их речи. Таких воздушных теней полна Помпеи, и сердце не раз обращает к ним благодарность, не раз грустит вместе с ними в их опустелом доме».
В этих живых и поэтических впечатлениях очень верно подмечены некоторые черты многогранного римского характера, та серьёзность, размеренность, внутренняя упорядоченность, которые наложили свой отпечаток на римский быт и на римское художественное творчество.
Планировка римского жилого дома (без окон, со светом, проникающим из внутренних дворов) сочетает элементы этрусского и эллинистического зодчества, однако с широким применением обожжённого кирпича и бетона: это новшество позволяло сооружать более прочные и вместительные здания.
Нельзя согласиться с некоторыми утверждениями Муратова. В городах, погибших под лавой и пеплом Везувия, сохранились и подлинные сокровища античного искусства. Ведь именно в Помпеях был открыт такой шедевр, как мозаика, изображающая битву Александра с персами. Искусство мозаики достигло очень высокого уровня в римскую эру, о чём свидетельствуют великолепные мозаичные полы, найденные не только в Помпеях, но и на всей бывшей территории империи. Красивый по мягкому сочетанию тонов образец помпеянской мозаики (аллегория месяца июня) выставлен в Эрмитаже.
Суждение Муратова о помпеянских стенных росписях отражает то двойственное впечатление, которое оставляет вся дошедшая до нас римская живопись.
В трактате римского зодчего Витрувия (I в. н. э.) имеется такое свидетельство: «Древние, положившие начало отделке стен, изображали на них сначала мраморные плиты с их разнообразными рисунками... Впоследствии они... стали изображать здания, колонны и фронтоны с их выступами... расписывали сценки в трагическом, комическом или сатирическом роде, воспроизводя на картинах подлинные особенности отдельных местностей. Тут пишут гавани, мысы, морские берега, реки. В некоторых местах имеется и монументальная живопись: изображения богов... а также битвы под Троей...»
Помпеянскую живопись принято делить на четыре стиля. Свидетельство Витрувия относится к первому и второму стилю, возникшему ещё в доимператорский период.
Роспись первого стиля была всего лишь имитацией мраморной облицовки. Роспись второго, более сложного, иллюзорно воспроизводит ниши, карнизы, монументальные пилястры, как бы раздвигающие стену, подчас создавая впечатление убегающей вдаль колоннады, величественной архитектуры и простора. В последующем, третьем стиле небольшие картины, медальоны, а то и отдельные фигурки красивыми пятнами ложатся на стену среди лёгких трельяжей в цветах и гирляндах, придавая покоям нарядную уютность. Наконец, в росписи четвёртого стиля преобладают совсем фантастические архитектурные композиции с галереями, балконами, театральными декорациями и дворцовыми фасадами, поражающими воображение своей феерической роскошью.
Как и сказано у Витрувия, вся эта живопись была «отделкой стен», т.е. живописью прежде всего декоративной, всего лишь приятным для глаз убранством покоев, рассчитанным на эти покои и создающим в них определённое настроение, изобразительному началу здесь отводилась подчинённая роль. Так что, как бы ни были иногда удачны, гармоничны и виртуозны эти росписи, они в целом не отвечают понятию живописи как самостоятельного искусства.
Ну, а как же пейзажи, сюжетные картины, о которых говорит Витрувий? Их ведь немало в стенных росписях среди чисто архитектурных форм.
Это почти всё - воспроизведения греческих оригиналов. Но копии никак не документальны, ибо художники, их писавшие, были прежде всего декораторами и следовали во всем общему декоративному замыслу. И потому тот, кто хочет постигнуть истинное величие утраченной греческой живописи, испытает в Помпеях некоторое разочарование.
Всё так. Верно и то, что художественный уровень помпеянских росписей неодинаков, что слишком часто встречаются в них ремесленные работы. И однако в этих росписях, равно как и во фрагментах, обнаруженных подчас в самом Риме, имеются и подлинные жемчужины, при этом не только декоративного, но и изобразительного искусства. Ведь, как мы видели на многих примерах, декоративность может сочетаться с изобразительной мощью.
В «Вилле мистерий» в Помпеях, где изображены таинства культа бога Диониса, некоторые фигуры - истинные шедевры, в частности обнажённая танцовщица, с такой прекрасной линией бёдер и общей стройностью стана. Равно как и «Девушка, переливающая духи» (в росписи римского дома), замечательная по изяществу контура, напоминающему лучшие образцы поздней греческой вазописи; портрет молодой женщины, возможно, поэтессы - с дощечками для письма, вдохновенным лицом и огромными, как бы из самой души светящимися глазами (Помпеи); незабываемая фигура богини Геры, пленяющая нас воздушностью и музыкальностью пластически совершенного образа (Стабия); удивительно живые и динамичные фигуры Ахиллеса и Одиссея (Помпеи); глубоко трагическая «Медея» (Геркуланум); некоторые пейзажи с искусной игрой света и тени и очень тонкой колористической гаммой. И перечень этот далеко не полон.
Истоки тут всюду греческие. Но общий замысел отражает, конечно, ещё более глубокую, чем в эллинистических городах, кровную привязанность к дому, надёжному фундаменту общественного и личного благополучия. В римском «искусстве жизни» роскошное украшение домашних покоев должно было служить гармоническим обрамлением каждодневных трудов и утех, принося обитателям радостное отдохновение и возвышая их дух гордым сознанием красоты, какой они себя окружили.
 «Чем дальше едешь по морю, - писал Гёте, - тем более глубоким становится оно. Подобно этому
можно сказать о Риме». Хотя провинции в конце концов и уничтожили Рим, дух его, глубокий и мощный,
изменил их облик.
«Чем дальше едешь по морю, - писал Гёте, - тем более глубоким становится оно. Подобно этому
можно сказать о Риме». Хотя провинции в конце концов и уничтожили Рим, дух его, глубокий и мощный,
изменил их облик.
Сражаться, устанавливать римский порядок (что значило также грабить) и строить - такова была миссия легионов. В том, что касается строительства, эта миссия была выполнена в грандиозных масштабах, отвечающих величию империи.
Новыми городами с великолепными храмами, театрами, аренами, арками и акведуками украсились покорённая Галлия, Британия, Центральная Европа. Весь варварский мир, где прогремела железная поступь легионов, испытал влияние римской культуры.
И эта же культура переродила древний Восток, дала ему новое сознание своей силы, обратившейся против Рима. Через Пальмиру, выстроенную в небольшом оазисе сирийской пустыни, шли торговые караваны, устанавливая постоянную связь Средиземноморья с Ираном и Индией. «Северной Пальмирой» прозвали некогда город, основанный Петром на пустынных берегах Невы, потому что античная Пальмира (что значит «город пальм») славилась во всём тогдашнем мире величием и красотой своих дворцов, арок и колоннад, от которых ныне остались развалины, и служила как бы средоточием мощи империи на самом её краю, рядом с соперничающим с Римом грозным Парфянским царством.
За городом - «Долина гробниц», где в высоких четырехугольных башнях или в подземных сооружениях хоронили знатных пальмирцев. Надгробия из известняка с рельефными изображениями умерших сочетали дух и художественные традиции Востока и Рима. Прекрасный образец пальмирской портретной скульптуры (надгробие Хайрана) имеется в Эрмитаже.
 Недалеко от Пальмиры - знаменитый Баальбек, святилище римских и местных богов.
Недалеко от Пальмиры - знаменитый Баальбек, святилище римских и местных богов.
Среди зелени садов, на фоне гор, акрополь Баальбека даже в развалинах оставляет неизгладимое впечатление. Шесть уцелевших коринфских колонн храма Юпитера, самых высоких в мире (их было пятьдесят четыре, двадцатиметровых, с пятиметровым антаблементом), воскрешают перед нами державную волю Рима - «вознести до небес» здесь, на Востоке, классическое наследие Эллады. Невиданная же пышность декоративного убранства свидетельствует о влиянии Востока на Рим.
Рим и Египет... Фаюмские портреты, так названные по месту первой находки близ Фаюмского оазиса; в Египте, - почти единственные дошедшие до нас образцы станковой живописи греко-римской эпохи. Написанные на дереве восковыми красками, нередко еще при жизни изображенного, эти портреты, ценнейшее собрание которых хранится в Музее изобразительных искусств в Москве, накладывались, по египетскому обычаю, на лицо умершего. Старые и молодые египтяне пристально взирают на нас из глубины веков. Нас волнует живая выразительность ранних фаюмских портретов, очень тонких по рисунку и звучных по цветовой гамме. Но уже в портретах III в. начинает преобладать жесткий линейный рисунок: они суше и схематичнее, с меньшим выявлением индивидуальных черт.
 Что-то надламывается к этому времени во всём искусстве античного мира. Скудеет былое высокое
мастерство, учащаются чисто ремесленные работы, и вместе с тем становятся всё явственнее и
упорнее поиски какого-то нового идеала красоты, отвечающего новому мироощущению.
Что-то надламывается к этому времени во всём искусстве античного мира. Скудеет былое высокое
мастерство, учащаются чисто ремесленные работы, и вместе с тем становятся всё явственнее и
упорнее поиски какого-то нового идеала красоты, отвечающего новому мироощущению.
Торжество этого нового мироощущения ознаменует конец античной культуры. Громкими делами, свершениями, удивившими мир, прославился древний Рим, но мрачным и мучительным был его закат.
Как пишет Энгельс, рабство «уже не приносило дохода, оправдывавшего затраченный труд». «Всеобщее обнищание, упадок торговли, ремесла и искусства, сокращение населения, запустение городов, возврат земледелия к более низкому уровню - таков был конечный результат римского мирового владычества» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т.21, стр.148.).
 Заканчивалась целая историческая эпоха. Отжившему строю предстояло уступить место новому,
более передовому; рабовладельческому обществу - переродиться в феодальное.
Заканчивалась целая историческая эпоха. Отжившему строю предстояло уступить место новому,
более передовому; рабовладельческому обществу - переродиться в феодальное.
В 313 г. долго гонимое христианство было признано в Римской империи государственной религией, которая в конце IV в. стала господствующей во всей Римской империи.
Христианство воинственно отвергало мироощущение, из которого выросло всё античное искусство. Во имя загробной жизни, о которой постоянно надлежало помышлять человеку, оно отвергало радость земного бытия, счастливую улыбку, с которой древний эллин глядел на мир, чувственное, любовное восприятие реального мира, значит, оно отвергало правдивое изображение этого мира и, главное, изображение человека во всей его мощи и славе, человека, осознавшего себя гармонически прекрасным увенчанием природы. Оно проповедовало смирение и потому послужило опорой для правящего класса империи; оно проповедовало мистическую экзальтацию и аскетизм, мечту о рае не земном, а небесном; оно создало новую мифологию, герои которой, подвижники новой веры, принявшие за неё мученический венец, заняли место, некогда принадлежавшее богам и богиням, олицетворявшим светлое, жизнеутверждающее начало, земную любовь и земную радость. Оно распространилось постепенно, и потому ещё до своего узаконенного торжества христианское учение и те общественные настроения, которые его подготовили, в корне подорвали идеал красоты, засиявший некогда полным светом на Афинском Акрополе и который был воспринят и утверждён Римом во всем ему подвластном мире.
Христианская церковь постаралась облечь в конкретную форму незыблемых религиозных верований новое мироощущение, в котором Восток со своими страхами перед неразгаданными силами природы, вечной борьбой со Зверем находил отклик у обездоленных всего античного мира. И хотя правящая верхушка этого мира вознадеялась новой всеобщей религией спаять дряхлеющую римскую державу, мироощущение, рождённое необходимостью социального преобразования, расшатывало единство империи вместе с той древней культурой, из которой возникла римская государственность.
 ...Сумерки античного мира, сумерки великого античного искусства. Во всей империи ещё строятся,
по старым канонам, величественные дворцы, форумы, термы и триумфальные арки, но это уже лишь
повторения достигнутого в предыдущие века.
...Сумерки античного мира, сумерки великого античного искусства. Во всей империи ещё строятся,
по старым канонам, величественные дворцы, форумы, термы и триумфальные арки, но это уже лишь
повторения достигнутого в предыдущие века.
Прежде чем в зодчестве, поиски новых форм проявятся в изобразительном искусстве.
Колоссальная голова - около полутора метров - от статуи императора Константина, перенесшего в 330 г. столицу империи в Византию, ставшую Константинополем - «Вторым Римом» (Рим, Палаццо консерваторов). Лицо построено правильно, гармонично, согласно греческим образцам. Но в этом лице главное - глаза: кажется, что, закрой их, не было бы самого лица... То, что в фаюмских портретах или помпеянском портрете молодой женщины придавало образу вдохновенное выражение, здесь доведено до крайности, исчерпало весь образ. Античное равновесие между духом и телом явно нарушено в пользу первого. Не живое человеческое лицо, а символ. Символ власти, запечатленной во взгляде, власти, подчиняющей себе всё земное, бесстрастной, непреклонной и недоступно высокой. Нет, даже если в образе императора сохранились портретные черты, это уже не портретная скульптура.
 Внушительна триумфальная арка императора Константина в Риме. Архитектурная её композиция строго
выдержана в классическом римском стиле. Но в рельефном повествовании, прославляющем императора,
стиль этот исчезает почти бесследно. Рельеф настолько низкий, что маленькие фигуры кажутся плоскими,
не изваянными, а выцарапанными. Они монотонно выстраиваются в ряд, лепятся друг к другу. Мы глядим
на них с изумлением: это мир, вовсе отличный от мира Эллады и Рима. Никакого оживления - и воскресает,
казалось бы, навечно преодолённая фронтальность!
Внушительна триумфальная арка императора Константина в Риме. Архитектурная её композиция строго
выдержана в классическом римском стиле. Но в рельефном повествовании, прославляющем императора,
стиль этот исчезает почти бесследно. Рельеф настолько низкий, что маленькие фигуры кажутся плоскими,
не изваянными, а выцарапанными. Они монотонно выстраиваются в ряд, лепятся друг к другу. Мы глядим
на них с изумлением: это мир, вовсе отличный от мира Эллады и Рима. Никакого оживления - и воскресает,
казалось бы, навечно преодолённая фронтальность!
Порфирное изваяние императорских соправителей - тетрархов, властвовавших в ту пору над отдельными частями империи. Эта скульптурная группа знаменует и конец и начало.
Конец - ибо решительно покончено в ней с эллинским идеалом красоты, плавной округлостью форм, стройностью человеческой фигуры, изяществом композиции, мягкостью моделировки. Та грубость и упрощённость, которые придавали особую выразительность эрмитажному портрету Филиппа Араба, стали здесь как бы самоцелью. Почти кубические, топорно высеченные головы. На портретность нет и намёка, словно человеческая индивидуальность уже недостойна изображения. Но это и не обобщающая идеализация, а всего лишь примитивная упрощённость, чем-то роднящая приземистые фигуры тетрархов с «каменными бабами» наших степей. Соправители стоят обнявшись, что, очевидно, означает согласие, которому надлежит царить между ними: вот и вся идея композиции. Движения их неуклюжи и безнадежно скованы.
 Да, это конец античного искусства. А в чём же начало? И о каком начале идёт речь? Оно в силе, пусть
варварской, пусть примитивной, но твёрдо себя утверждающей в каждой фигуре и в их органическом
сочетании. Ведь не оторвать одну от другой. В силе, идущей из недр человеческого сознания, из подлинно
народных глубин, с верой, что по-своему, совершенно по-новому можно запечатлеть то, что клокочет в
душе в вечных поисках правды. Робкая ещё и наивная попытка. Но в ней уже заложена воля, которая
породит могучий взмах крыльев.
Да, это конец античного искусства. А в чём же начало? И о каком начале идёт речь? Оно в силе, пусть
варварской, пусть примитивной, но твёрдо себя утверждающей в каждой фигуре и в их органическом
сочетании. Ведь не оторвать одну от другой. В силе, идущей из недр человеческого сознания, из подлинно
народных глубин, с верой, что по-своему, совершенно по-новому можно запечатлеть то, что клокочет в
душе в вечных поисках правды. Робкая ещё и наивная попытка. Но в ней уже заложена воля, которая
породит могучий взмах крыльев.
Группа соправителей была изваяна в начале IV в., на закате античной культуры.
В 395 г. Римская империя распалась на Западную - латинскую и Восточную - греческую. В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами германцев. Наступила новая историческая эпоха, именуемая средневековьем.
Новая страница открылась в истории искусства.
|
|
© HISTORIC.RU 2001–2023
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://historic.ru/ 'Всемирная история'